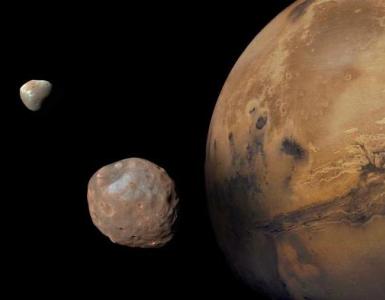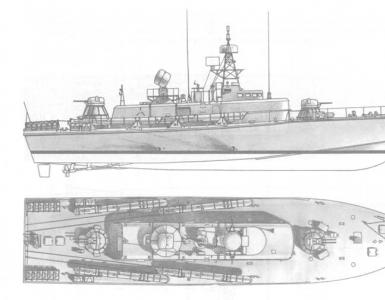Рой вальтер. Вальтер скотт "роб рой"
Вальтер Скотт и его роман "Роб Рой"
Введение
1. Характеристика творчества Вальтера Скотта
1.1 Черты художественного стиля
1.2 Особенности жанра
2. Специфика романа «Роб Рой»
2.1 Образ Шотландии
2.2 Структура романа
2.3 Сюжетные коллизии
Заключение
Список литературы
Введение
Осенью 1814 года английские книгопродавцы, довольные, посчитывали барыши: успех последней новинки - анонимного романа «Уэверли, или Шестьдесят лет назад» - превзошел все ожидания. В Эдинбурге и Лондоне пытались разоблачить таинственного инкогнито, над «волшебным вымыслом» которого обливались слезами десятки тысяч читателей; критики заключали пари, споря, кто же автор; дополнительные тиражи романа следовали один за другим, а по ту сторону океана, в США, именем его главного героя называли города и поселки. Восторг был единодушным. Даже такой строгий ценитель литературы, как Байрон, и тот восклицал: «Уэверли» - это самый замечательный, самый интересный роман, какой мне только приходилось читать...»
А тем временем создатель «Уэверли» не без удовольствия взирал на устроенный им переполох в литературном мире и даже подливал масла в огонь, публично высказывая свои предположения по поводу тайны авторства. «Все достойные эдинбуржцы сейчас только тем и заняты, что ищут автора «Уэверли», - с гордостью сообщал он одному из своих друзей вскоре после выхода романа. Но, увы, торжество мистификатора было недолгим: новые романы, подписанные «автор «Уэверли», рассеяли все сомнения и превратили его инкогнито в секрет Полишинеля. По характерному стилю, по кругу тем, по выбору героев в анониме узнали Вальтера Скотта.
1. Характеристика творчества Вальтера Скотта
1.1 Черты художественного стиля
Имя Вальтера Скотта (1771-1831) и раньше было хорошо знакомо британским любителям литературы. Выходец из древнего шотландского рода, уважаемый эдинбургский стряпчий, он успел завоевать широкую известность и как переводчик немецких романтиков, и как собиратель народных баллад, и как поэт, автор блистательных стилизаций, написанных, по его словам, «в подражание древним песням, которые некогда распевались менестрелями под звуки арф». И хотя поэт Вальтер Скотт был признан и популярен не только у себя на родине (в России, например, его знали по прекрасным переводам В.А. Жуковского), ничто не могло сравниться с той всемирной славой, которая ждала Вальтера Скотта, автора двадцати шести больших романов, творца грандиозного художественного мира, населенного, как подсчитал один терпеливый исследователь, «2836-ю персонажами, включая 37 лошадей и 33 собаки». Поистине, 20-30-е годы прошлого века могут быть названы эпохой Вальтера Скотта, ибо никого так не почитали (и не читали) тогда, как «шотландского чародея». Сотни английских, французских, немецких, итальянских, русских писателей пробовали подражать своему кумиру, его равняли с Гомером и Шекспиром, иена его героев становились нарицательными, замок в Эбботсфорде превратился в место паломничества, вальтерскоттовские плащи и шляпы не выходили из моды, и многие, наверное, мечтали, как Карамзин, поставить «в саде своем благодарный памятник Вальтеру Скотту за удовольствие, вкушенное в чтении его романов».
Существует легенда, пущенная в ход самим Вальтером Скоттом, будто бы он начал писать романы лишь потому, что не хотел состязаться с Байроном за пальму первенства в поэзии. Возможно, так оно и было на самом деле, но кроме того существовали, конечно, и другие, более глубокие и серьезные причины обращения Вальтера Скотта в прозаика. Свидетель глубочайших социальных и экономических потрясений, современник Великой французской революции и наполеоновских войн, на глазах у которого гибли милые его сердцу патриархальные традиции, рушились троны и перекраивалась карта Европы, Вальтер Скотт, как и многие европейские художники его поколения, был буквально одержим чувством истории. Череда молниеносных исторических сдвигов сформировала его, и он - типичнейший романтик по своему мироощущению - отверг абстрактные, вневременные представления о человеке, свойственные просветительскому мышлению XVIII века, и осознал, что человек всегда конкретен, всегда принадлежит своей эпохе и существует в исторической реальности.
В своих романтических поэмах и стихотворениях он использовал фольклорные сюжеты и образы, чтобы средствами искусства восстановить память об утраченном или забытом национальном прошлом. Он писал о рыцарях и волшебниках, о похищенных красавицах и отважных разбойниках, и далекое средневековье превращалось под его пером в полусказочную. героическую эпоху, в объект для любования и ностальгического вчуствования. Но в поэзии Вальтера Скотта, как заметил М.М. Бахтин, само время «имело еще характер замкнутого прошлого». Увиденное сквозь искажающую дымку чувства утраты, поданное как воспоминание о «потерянном рае», прошедшее отделялось от настоящего, его связи с грядущим обрывалась - оно существовало само по себе, изолированно, вне единой «реки времян».
Если проследить за творческой эволюцией Вальтера скотта до 1814 года, то мы увидим, как все теснее становится его художественно-историческому мышлению в пределах, заданных в бытующими поэтическими жанрами, как он стремится преодолеть свойственную романтической поэзии ограниченность историзма и осмыслить суть былого в его живой связи с настоящим и грядущим. Но прорыв к разомкнутому, полному времени, отказ от идеализирующей субъективности при взгляде на историю не могли осуществиться без глубинной перестройки, и поэтому обращение писателя к роману было вполне закономерным.
1.2 Особенности жанра
Впрочем, и современные виды романа не вполне удовлетворяли Вальтера Скотта, мыслившего историю как многомерное, противоречивое единство. Уже в первой главе «Уэверли» он, разрушая все стереотипные жанровые ожидания, настойчиво предупреждает читателей, «что в последующих страницах они не найдут ни рыцарского романа, ни хроники современных нравов», ни других, знакомых им типов повествования. И действительно, вальтер-скоттовский роман был романом нового типа, романом историческим, и современников он поражал именно своей новизной, своей непохожестью на все, что они знали прежде. «До сих пор мы находили роман в истории, - писал А. Бестужев-Марлинский. - Вальтер Скотт ухитрился одеть историю в роман».
Строго говоря, исторические романы существовали и до Вальтера Скотта, но только ему удалось избежать «этнографичности» в изображении прошлого, удалось войти с ним в прямой контакт, или, говоря словами А.С. Пушкина, преподнести прошедшее время «домашним образом». Широко пользуясь сюжетными ходами и повествовательными приемами, заимствованными как у готического романа с его замками, похищениями и роковыми тайнами, так и у семейно-биографического романа типа «Тома Джонса» Филдинга, он заставил их работать на совершенно иные задачи. Авантюра, загадка, любовная интрига перестали быть самоцелью - вплетенные в широкий исторический фон, они начали играть роль переходных мостиков между вымыслом и документом, между вымышленным героем и героем историческим и превратились в средство для воссоздания духа эпохи, а не только ее нравов и обычаев. Так возникли особые персонажи, темы, конфликты, как бы отмеченные личным вальтер-скоттовским клеймом, так возникла - и на время вытеснила все прочие - особая модель романа, точно определяемая пушкинской формулой: «историческая эпоха, развитая в вымышленном повествовании».
Где бы не проходило действие романов Вальтера Скотта - в средневековой ли Англии, как в «Айвенго», или во «Франции» XV века, как в «Квентине Дорварде», или в Византии, как в «Графе Роберте Парижском», - оно всегда переносит нас в переходную, чреватую изменениями эпоху, в гущу решающей схватки двух культур, двух идеологий, двух укладов. В истории каждой страны писателя интересуют переломные моменты, когда конфликт между старым, традиционным, уходящим с одной стороны, и новым, предвещающим будущее - с другой, достигает крайней степени остроты. В его романах - сначала многословных и неспешных, а затем стремительных и сжатых до конспективного изложения событий - речь, как правило, идет о гражданских войнах и мятежах, о религиозных распрях и дворцовых переворотах, причем писатель всегда строит картину расколотого надвое мира с подчеркнутой объективностью. Исторические личности, обязательно входящие в число вальтер-скоттовских героев, обычно распределяются попарно, как антагонисты, жестко прикрепленные к одному из враждующих лагерей. Непроницаемая тишина делит пространство романа на два отсека, и герой становится олицетворением своей социальной или идеологической группы; в нем высвечивается типическое, характерное для данной исторической ситуации; он воплощает приметы эпохи и культуры, к которым принадлежит.
В структуре вальтер-скоттовского романа большое значение приобретает комментирующее и объясняющее авторское слово, которое то и дело вторгается в повествование, останавливая развитие действия всевозможными историческими, этнографическими или культурологическими пояснениями. Стараясь сохранить полную беспристрастность и увидеть прошлое «двойным зрением», автор не дает забыть о дистанции между читателем и изображаемым временем. Его позиция - это позиция объективного наблюдателя, который видит историческую правоту одних, обреченность других, но не навязывает читателю своего предпочтения. Мир представляется ему в виде множества контрастирующих пар: прошлое противопоставляется будущему, протестанты - католикам, роялисты - республиканцам, благородство - злодейству, проза - поэзии и т.д. Каждый исторический герой Вальтера Скотта находит себе соперника, а каждая идея - антитезу, но диалог между ними затруднен, поскольку они разведены по разные стороны исторического барьера, - в поле зрения автора они возникают как неподвижные и непрозрачные друг для друга данности, как контрастные, но статичные части единого полотна.
Сочинение
Образ Роб Роя привлекал Вальтера Скотта давно. Во время своих этнографических экскурсий по Шотландии он уже и раньше слышал о Роб Рое, в старых юридических документах находил важные сведения о его жизни. Выпуская свой роман, Скотт снабдил его введением, в котором подробно рассказывал о Роб. Рое. Это введение - очерк жизни и подвигов Роб Роя, неразрывно связанный с историей его рода - клана Мак-Грегор. К биографии храброго горца Вальтер Скотт прибавил документы, показывающие, как настойчиво преследовала Роб Роя шотландская юстиция - друзья и помощники мистера Джобсона, отвратительного крючкотвора, обрисованного в романе с такой ненавистью и иронией.
При сравнении этого исторического очерка о Роб Рое с самим романом мы понимаем, что Вальтер Скотт, дополняя роман очерком, хотел не только помочь читателю разобраться в сложной истории Роб Роя, его друзей и врагов: В. Скотт представил на суд читателю два варианта характеристики Роб Роя, два портрета - историческую правду, заключенную, как казалось, в очерке, и поэтическую обработку истории - свой роман. В романе характер Роб Роя во многом не тот, что в очерке: писатель разрешил себе некоторые отклонения от тех фактов, которые он сам сообщил как историк. Зато как художник он создал обобщенный образ, в котором воплотил не только индивидуальные черты Роб Роя, но и типические особенности горца, пытающегося отстоять свою свободу и самостоятельность.
Не входя в историю клана Роб Роя, о которой писатель подробно говорит в предисловии к роману, не пересказывая биографию Роб Роя, Вальтер Скотт подчеркивает, что его герой возненавидел существующие в Шотландии бесчеловечные законы после того, как был несправедливо и жестоко оскорблен, разорен и унижен людьми, действовавшими от имени крупного помещика - герцога Монт-роз. Не рассказывая в романе о том, что клан Мак-Грегоров, к которому принадлежал Роб Рой, с давних пор преследовался шотландским правительством, Вальтер Скотт объединяет вокруг Роб Роя не просто родичей из его клана, но таких же, как он, людей, ограбленных и оскорбленных шотландской знатью и не желающих больше влачить рабское существование. Уверенными штрихами набрасывает писатель образы помощников и друзей Роб Роя, образ его жены - упорно и беспощадно мстящей за свой позор, создает массовые сцены, показывающие, как народ любит Роб Роя. Роб Рой в руках у врагов, - но простой человек, рядовой солдат, пожертвовав жизнью, дает ему возможность спастись, уйти от виселицы.
Вместе с тем писатель не идеализирует Роб Роя, показывает реальные условия существования его клана и его семьи. Читая роман, мы постоянно вспоминаем замечание Энгельса, писавшего в одном из своих писем, что шотландские горцы, «воспетые Вальтером Скоттом» - «злейшие грабители скота». Тут же, однако, Энгельс упоминает и о достоинствах любимых героев Скотта, не раскрывая своего мнения более полно, но и отдавая преимущество этим достоинствам перед приведенным недостатком: налеты шотландской вольницы на скотоводческие области долинной Шотландии нередко были формой борьбы оттесняемых в горы кланов против упорного, сильного и лучше вооруженного противника. Конечно, эта форма протеста носила анархический, стихийный характер, не раз вела к злоупотреблениям, но романы Вальтера Скотта показали достаточно ярко картину тех систематических злоупотреблений, при помощи которых правящие классы Англии и Шотландии разоряли и доводили до отчаяния бедневшие и приходившие в упадок кланы горных областей страны.
Наделив Роб Роя смелостью и решительностью, Скотт показывает его мудрым, благородным, великодушным сыном народа. Роб Рой отпускает на волю пленных солдат, захваченных его воинами; отнимая имущество богатых, он раздает его бедным. Иногда Роб Рой поднимается до сознания того, что он мстит не только за себя, но и за беды многих других своих соотечественников, изведавших всю несправедливость строя, укреплявшегося в Шотландии. В уста Роб Роя Вальтер Скотт вкладывает очень важные слова, которые звучат как выражение народной ненависти к правящим классам:
«Жалкий шотландский торговец скотом, разоренный, босой и голый, лишенный всего благодаря ненавистной алчности кредиторов, обесчещенный, покажет им себя! - восклицает Роб Рой.- Они топтали его, как червя, ползающего по земле, но они ужаснутся, когда ничтожный червь обратится в крылатого дракона, изрыгаю-щего пламя...»
«Будь что будет, - отвечает он в другом месте на увещания Фрэнка, пытающегося вернуть его к «мирной жизни» и пугающего неизбежным поражением близящегося якобитского восстания, в котором Роб готовится принять участие. Чтобы небо прояснилось, туча должна разразиться дождем. Если свет перевернется вверх дном, то честным людям будет легче достать себе кусок хлеба».
Эти слова помогают понять взгляд Вальтера Скотта на самый факт широкого участия шотландских горцев в восстаниях якобитов. В противоположность распространенным в буржуазной историографии россказням о том, что горцы шли под знамена мятежников, привлекаемые.прежде всего жаждой грабежа, писатель выдвигает еще одно важное соображение: ограбленные, нищие, угнетаемые горцы, плохо разбиравшиеся в ходе политических событий, восставали с надеждой, что им удастся отвоевать хоть что-нибудь из прав, которые систематически отнимали у них господствующие классы Англии и Шотландии.
Вальтер Скотт поясняет, что Роб Рой, ошибочно считающий якобитское восстание «честным делом», ждет от него облегчения для простых людей, томящихся под наложенным на них двойным ярмом помещичьей и буржуазной эксплуатации. Здесь писатель, не приукрашивая воззрений шотландского горца, показал распространенный и долго существовавший в народной массе предрассудок - монархические иллюзии, которые в Шотландии связаны были с планами восстановления Стюартов. В Стюартах горцы видели наследников «своей», шотландской династии - в противовес династии ганноверской.
На заключительных страницах романа Роб Рой вырастает в фигуру, творящую жестокий, но справедливый суд не только над своими обидчиками, но и над ренегатом Рашлеем. Рашлей предал дело, за которое пролилось столько крови; Рашлей обманул доверие простых людей, которые должны были подняться по его слову,- и один из них, горец Роб Рой, казнит Рашлея, как бы приводя в исполнение приговор, который давно вынесен предателю не только его бывшими товарищами, но и писателем.
Чувство собственного достоинства, уверенность в себе, проницательность, здравый смысл характеризуют Роб Роя. В нем воплощены силы, народа, его воля к сопротивлению, его мечта о свободе - к сожалению, служащая авантюристам, которые ловко используют отсталость и косность горцев в своих интересах.
Насколько велика воля горцев к сопротивлению, насколько умело и упорно ведут они борьбу за свою свободу - об этом рассказывает весь эпизод с карательной экспедицией, разгромленной людьми Роб Роя, действующими под началом его жены. Поражение британских карателей, расправа с английским шпионом, попавшим в руки горцев, составляют один из самых сильных эпизодов романа. В нем горцы показаны как защитники своих домов и семей от грубого вмешательства иноземцев. С явным сочувствием изображает Скотт и ненависть, с которой относятся в шотландской деревне к английским карателям, и то мужество, с каким горцы отбивают натиск регулярных войск, сами переходят в атаку и, наконец, побеждают.
«Больше душ убито серебряной монетой, чем тел обнажённым мечом», – произносит главный герой одноимённого приключенческого романа известного шотландского писателя, поэта, историка и основоположника жанра исторического романа Вальтера Скотта (1771–1832). Роман Вальтера Скотта «Роб Рой» о национальном герое Шотландии и «благородном разбойнике» с самой первой публикации в 1817 году стал одним из любимых приключенческих романов и вошёл в классику мировой литературы. Роман «Роб Рой» рекомендован Министерством образования РФ для внеклассного чтения.
В чем грех мой, что легло такое горе
На плечи мне? Отныне у меня
Нет больше сына! Да сразит проклятье
Того, кто так тебя преобразил!
Ты хочешь путешествовать? Скорее
Я в путешествие пошлю коня!
Monsieur Thomas
Вы убеждали меня, дорогой мой друг, часть того досуга, которым провидение благословило закат моей жизни, посвятить описанию невзгод и опасностей, сопровождавших ее рассвет. Действительно, воспоминание о тех похождениях, как вам угодно было их назвать, оставило в моей душе сложное и переменчивое чувство радости и боли, смешанное, скажу я, с великой благодарностью к вершителю судеб человеческих, который вел меня вначале по пути, отмеченному трудами и превратностями, чтобы тем слаще казался при сравнении покой, ниспосланный мне под конец моей долгой жизни. К тому же как могу я сомневаться в том, о чем вы мне не раз твердили: что выпавшие мне на долю злоключения среди народа, до странности первобытного и по обычаям своим и по гражданскому строю, должны привлечь каждого, кто не прочь послушать рассказы старика о былых временах.
Все же вы не должны забывать, что повесть, рассказанная другу и другом выслушанная, утратит половину своей прелести, если ее изложить на бумаге, и что рассказы, за которыми вы с интересом следили, прислушиваясь к голосу того, кто все это пережил сам, окажутся не столь уж занимательны, когда вы станете их перечитывать в тиши своего кабинета. Но ваш еще не старый возраст и крепкое сложение обещают вам более долгие годы, чем может их выпасть на долю вашему другу. Бросьте же эти листы в какой-нибудь ящик вашего секретера до той поры, когда разлучит нас событие, которое грозит наступить в любую минуту и неизбежно наступит на протяжении немногих – очень немногих – лет. Когда мы расстанемся в этом мире, – чтобы встретиться, как я надеюсь, в лучшем, – вы станете, наверно, чтить больше, чем она заслуживает, память ушедшего друга; и в тех подробностях, что я собираюсь теперь поверить бумаге, вы найдете предмет для грустных, но не лишенных приятности размышлений.
Другие завещают своим закадычным друзьям портреты, изображающие внешние их черты, – я же передаю вам в руки верный список мыслей моих и чувствований, моих добродетелей и недостатков в твердой надежде, что безумства и своенравная опрометчивость моей молодости встретят ту же благосклонность, ту же готовность прощать, с какими вы так часто судили об ошибках моих зрелых лет.
Обращаясь в своих мемуарах (если можно так торжественно назвать эти листы) к дорогому и близкому другу, я в числе многих преимуществ приобретаю еще и ту выгоду, что могу опустить иные подробности, в этом случае излишние, но которые поневоле должен был бы изложить человеку постороннему, отвлекаясь от более существенного. Разве стану я докучать вам только потому, что вы в моей власти, что передо мной бумага и чернила и что времени у меня достаточно? Но все же трудно мне пообещать, что я не употреблю во вред этот соблазнительно представившийся случай поговорить о себе и о своих заботах, хотя мое повествование касается обстоятельств, известных вам так же хорошо, как и мне. Когда мы сами – герои событий, о которых говорим, то нередко, увлеченные рассказом, мы бываем склонны пренебречь заботой о времени и терпении наших слушателей, и часто лучшие и мудрейшие из нас уступали такому соблазну. Стоит мне только напомнить вам забавный пример с мемуарами Сюлли в той редкой и своеобразной их редакции, которую вы (в наивном тщеславии библиофила) упрямо предпочитаете другой, где они приведены в обычной для мемуаров удобочитаемой форме, тогда как, на мой взгляд, эта любимая вами редакция любопытна лишь одним: она показывает, до чего может дойти в своем самомнении даже такой большой человек, как их автор. Если память мне не изменяет, этот почтенный вельможа и государственный муж выбрал четырех джентльменов из своих приближенных и поручил им изложить события его жизни под заголовком: «Воспоминания о мудрых королевских деяниях, государственных, семейных, политических и военных, совершенных Генрихом IV…» и т. д. Важные хроникеры, составив свою компиляцию, придали мемуарам о замечательных событиях жизни их господина форму рассказа, обращенного к нему самому in propria persona. Таким образом, вместо того чтобы рассказать свою историю в третьем лице, как Юлий Цезарь, или в первом, как большинство тех, кто в гостиной или в кабинете затеет занять общество повествованием о себе самом, Сюлли вкушает утонченное, но необычное наслаждение: сам превратившись в слушателя, он внимает повести о событиях своей жизни в изложении своих секретарей, будучи в то же время героем, а может быть, и автором всей книги. Великолепное было, вероятно, зрелище: экс-министр, прямой, как палка, в накрахмаленных брыжах и в расшитом камзоле, помпезно сидит под балдахином и внемлет чтению своих компиляторов; а те, стоя перед ним с непокрытыми головами, самым серьезным образом ему сообщают: «Герцог сказал то-то, герцог поступил так-то; мнение вашей милости по этому сложному вопросу было таково; в другом же, не менее затруднительном случае ваши тайные советы королю были таковы», – хотя все эти обстоятельства, конечно, были лучше известны их слушателю, нежели им самим, и большую часть их они могли узнать только из его же доверительного сообщения.
Я не в таком смешном положении, как великий Сюлли, но все же покажется странным, если Фрэнк Осбалдистон станет давать Уиллу Трешему формальный отчет о своем рождении, воспитании и положении в обществе. Поэтому, поборов искушение поддаться увещаниям П. П., причетника нашего прихода, я постараюсь обойти в своем рассказе все то, что вам уже известно. Однако кое-какие события я должен восстановить в вашей памяти: если раньше вы их превосходно знали, то с течением времени могли забыть, а между тем они во многом определили мою судьбу.
Вы должны хорошо помнить моего отца: ведь ваш отец был компаньоном нашего торгового дома, так что вы с детства знали моего старика. Но вряд ли видели вы его в лучшие дни – до того, как годы и болезнь охладили в нем пламенный дух предприимчивости и сковали его деловой размах. Он был бы беднее, но, пожалуй, не менее счастлив, если бы посвятил науке ту неукротимую энергию и острую наблюдательность, которые направил на торговлю. Однако в приливах и отливах коммерческой удачи, независимо даже от надежды на прибыль, есть что-то захватывающее для искателя приключений. Кто пустился в плавание по этим неверным водам, должен обладать искусством кормчего и выносливостью мореплавателя – и все-таки может потерпеть крушение и погибнуть, если ветер счастья под конец не станет ему услужать. Напряженное внимание в соединении с неизбежным риском – постоянная и страшная неуверенность, победит ли осторожность игру случайностей, не опрокинет ли злая случайность расчеты осторожности, – занимает все силы и ума и чувства, и торговля, таким образом, заключает в себе все прелести азартной игры, не нанося ущерба нравственности.
В начале восемнадцатого столетия, когда мне с Божьей помощью едва исполнилось двадцать лет, я был внезапно отозван из Бордо к отцу по важному делу. Никогда не забуду нашей первой встречи. Вы помните его резкую, несколько суровую манеру выражать окружающим свою волю. Мне кажется, я и сейчас мысленно вижу его перед собою – прямую и крепкую фигуру, поступь быструю и решительную, острый и проницательный взгляд, лицо, на котором забота уже оставила морщины, – и слышу его скупую, сдержанную речь, его голос, помимо воли звучавший порою слишком жестко.
Я спрыгнул с почтовой лошади и поспешил в комнату отца. Он шагал из угла в угол в спокойном, глубоком раздумье, которого не мог нарушить даже мой приезд, хоть я и был у отца единственным сыном и мы не виделись четыре года. Я бросился ему на шею. Он был добрым, хотя и не очень нежным отцом, и в темных его глазах засверкали слезы; но лишь на одно мгновение.
– Дюбур пишет мне, что он доволен тобою, Фрэнк.
– Я счастлив, сэр…
– А у меня меньше оснований быть счастливым, – перебил отец и сел к письменному столу.
– Я сожалею, сэр…
– «Я сожалею», «я счастлив»… Эти слова, Фрэнк, в большинстве случаев значат мало или вовсе ничего. Вот твое последнее письмо.
Он достал его из пачки других писем, перевязанных красной тесьмой, с замысловатыми наклейками и пометками на полях. Здесь оно лежало, мое бедное письмо, написанное на тему, в то время самую близкую моему сердцу, изложенное в словах, которые, думал я, если не убедят то пробудят сочувствие, – и вот, говорю, оно лежало, затерянное среди других писем о всевозможных торговых операциях, в которые вовлекали отца его будничные дела. Я не могу удержаться от улыбки, вспоминая, как я с оскорбленным тщеславием и раненым самолюбием глядел на свое послание, сочинить которое стоило мне, смею вас уверить, немалого труда, – глядел, как его извлекают из кипы расписок, извещений и прочего обыденного, как мне казалось тогда, хлама коммерческой корреспонденции. «Несомненно, – подумал я, – такое важное письмо (я даже перед самим собой не осмелился добавить: «и так хорошо написанное») заслуживает особого места и большего внимания, чем обычные конторские бумаги».
Но отец не заметил моего недовольства, а если б и заметил, не посчитался бы с ним. Держа письмо в руке, он продолжал:
– Итак, Фрэнк, в своем письме от двадцать первого числа прошлого месяца ты извещаешь меня, – тут он стал читать письмо вслух, – что в таком важном деле, как выбор жизненного пути и занятий, я, по своей отцовской доброте, несомненно, предоставлю тебе если не право голоса, то хотя бы право отвода; что непреодолимые… да, так и написано: «непреодолимые» – я, кстати сказать, хотел бы, чтобы ты писал более разборчиво: ставил бы черточку над «т» и выводил петлю в «е», – непреодолимые препятствия не позволяют тебе принять предложенную мной программу. Это говорится и пересказывается на добрых четырех страницах, хотя при некоторой заботе о ясности и четкости слога можно бы уложиться в четыре строки. Ибо, Фрэнк, в конце концов все это сводится к одному: ты не хочешь следовать моему желанию.
– «Не хочу» – не то слово. При настоящих обстоятельствах, сэр, я не могу.
– Слова значат для меня очень немного, молодой человек, – сказал мой отец, в ком непреклонность всегда сочеталась с полным спокойствием и самообладанием. – «Не могу» – это, пожалуй, вежливей, чем «не хочу», но там, где нет налицо моральной невозможности, эти два выражения для меня равнозначны. Впрочем, я не сторонник поспешных действий; мы обсудим это дело после обеда. Оуэн!
Явился Оуэн – не в серебряных своих сединах, которые вы некогда чтили, ибо тогда ему было лет пятьдесят с небольшим, но одетый в тот же или в точности такой же костюм светло-коричневого сукна, в таких же жемчужно-серых шелковых чулках, в таких же башмаках с серебряными пряжками и в плиссированных батистовых манжетах, которые он в гостиной выпускал наружу, но в конторе старательно заправлял в рукава, чтобы не забрызгать чернилами, изводимыми им ежедневно в немалом количестве, – словом, Оуэн, старший клерк торгового дома «Осбалдистон и Трешем», важный, чопорный – и тем не менее благодушный, каким он оставался до самой своей смерти.
– Оуэн, – сказал отец, когда добрый старик горячо пожал мне руку, – вы сегодня отобедаете с нами и послушаете новости, которые Фрэнк привез нам из Бордо от наших друзей.
Оуэн с почтительной благодарностью отвесил церемонный поклон: в те дни, когда расстояние между высшими и низшими подчеркивалось с чуждой нашему времени резкостью, подобное приглашение означало немаловажную милость.
Памятным остался для меня этот обед. Глубоко встревоженный и даже несколько недовольный, я был не способен принять в разговоре живое участие, какого ждал от меня, по-видимому, отец, и слишком часто отвечал неудачно на вопросы, которыми он меня осаждал. Оуэн, колеблясь между почтением к своему патрону и любовью к юноше, которого он когда-то качал на коленях, старался, подобно робкому, но преданному союзнику государства, подвергшегося нападению врага, найти оправдание каждому моему промаху и прикрыть мое отступление, но эти маневры только пуще раздражали отца и, не защищая меня, навлекали его досаду также и на доброго моего заступника. Проживая в доме Дюбура, я вел себя не совсем так, как тот конторщик, осужденный
Гневить и в вечности отцовский дух,
Исписывая стансами гроссбух, –
но, сказать по правде, я посещал контору не чаще, чем это казалось мне необходимым, чтобы обеспечить себе добрые отзывы со стороны француза, давнишнего корреспондента нашей фирмы, которому отец поручил посвятить меня в тайны коммерции. Главное свое внимание я уделял литературе и физическим упражнениям. Отец мой отнюдь не порицал стремлений к развитию как умственному, так и телесному. Человек трезвого ума, он не мог не видеть, что они служат каждому к украшению, и понимал, насколько они облагораживают нрав и способствуют приобретению доброго имени. Но он тешил свое честолюбие мечтою завещать мне не только свое состояние, но также планы и расчеты, которыми надеялся приумножить и увековечить оставляемое им богатое наследство.
Любовь к своему занятию была мотивом, который он счел наиболее удобным выдвинуть, настойчиво призывая меня стать на избранный им путь; но были у него и другие причины, которые я узнал лишь позднее. Искусный и смелый, он был неукротим в своих замыслах, каждое новое предприятие в случае удачи давало толчок – а также и средства – к новым оборотам. Он, казалось, испытывал потребность, подобно честолюбивому завоевателю, идти от достижения к достижению, не останавливаясь для того, чтобы закрепить свои приобретения и – еще того менее – чтобы насладиться плодами побед. Постоянно бросая все свое состояние на весы случая, он всегда умело находил способ склонить их стрелку на свою сторону, и, казалось, его здоровье, решительность, энергия возрастали, когда он, воодушевленный опасностью, рисковал всем своим богатством; он был похож на моряка, привыкшего смело бросать вызов и волнам и врагам, потому что вера в себя возрастает у него накануне бури, накануне битвы. Однако он понимал, что годы или внезапная болезнь когда-нибудь сокрушат его крепкий организм, и стремился заблаговременно подготовить в моем лице помощника, который сменит его у руля, когда его рука ослабеет, и поведет корабль согласно советам и наставлениям старого капитана. Итак, любовь к сыну и верность своим замыслам приводили его к одному и тому же решению. Ваш отец, хоть и вложил свой капитал в наш торговый дом, был, однако, как говорится у коммерсантов, «сонным компаньоном»; Оуэн, безупречно честный человек, превосходный знаток счетного дела, был неоценим в качестве старшего клерка, но ему не хватало знаний и способностей для проникновения в тайны общего руководства всеми предприятиями. Если бы смерть внезапно сразила моего отца, что сталось бы со всеми его многообразными начинаниями? Оставалось одно: вырастить сына Геркулесом коммерции, способным принять на плечи тяжесть, брошенную падающим Атлантом. А что сталось бы с самим сыном, если б он, новичок в такого рода делах, был вынужден пуститься в лабиринт торговых предприятий, не имея в руках путеводной нити знаний, необходимой, чтобы выбраться на волю? Вот по каким соображениям, высказанным и не высказанным, отец мои решил, что я должен избрать для себя его поле деятельности. А в своих решениях мой отец был непреклонен, как никто другой. Но следовало все-таки посоветоваться и со мною; я же с унаследованным от него упрямством принял как раз обратное решение.
Отпор, оказанный мною желаниям отца, можно, я надеюсь, извинить в какой-то мере тем, что я не совсем понимал, на чем они основаны и как сильно зависит от моего согласия все его счастье. Я воображал, что мне обеспечено большое наследство, а до поры до времени щедрое содержание; мне и в голову не приходило, что ради упрочения этих благ я должен буду сам трудиться и терпеть ограничения, противные моим вкусам и характеру. В стараниях моего отца сделать из меня коммерсанта я видел только стремление стяжать новые богатства в добавление к уже приобретенным. И, воображая, что мне лучше судить, какая дорога приведет меня к счастью, я не видел нужды приумножать капитал, и без того, по-моему, достаточный, и даже более чем достаточный, для удовлетворения всех потребностей, для удобной жизни и для изысканных увеселений.
Итак, повторяю: я проводил время в Бордо совсем не так, как хотелось бы моему отцу. Те занятия, которые он полагал главной целью моего пребывания в этом городе, я забрасывал ради всяких других, и, когда бы смел, я вовсе пренебрег бы ими. Дюбур, извлекавший для себя немало благ и пользы из сношений с нашим торговым домом, был слишком хитрым политиком, чтобы давать главе фирмы такие отзывы о его единственном сыне, какие возбудили бы недовольство и у меня и у отца; возможно также, как вы поймете из дальнейшего, что он имел в виду свою личную выгоду, потворствуя мне в пренебрежении теми целями, ради которых я был отдан на его попечение. Я держался в границах приличия и добропорядочности, так что до сих пор он не имел оснований давать обо мне дурные отзывы, если б даже был к тому расположен; но поддайся я и худшим наклонностям, чем нерадивость в торговом деле, лукавый француз проявил бы, вероятно, ту же снисходительность. Теперь же, поскольку я уделял немало времени любезным его сердцу коммерческим наукам, он спокойно смотрел, как часы досуга я посвящаю совершенствованию в другой, более классической области, и не попрекал меня тем, что я зачитываюсь Корнелем или Буало, предпочитая их Постлтвейту (вообразим, что его объемистый труд в то время уже существовал и что Дюбур умел произносить это имя), и Савари, и всякому другому автору трудов по коммерции. Он позаимствовал откуда-то удобную формулу и каждое письмо обо мне заканчивал словами, что я «в точности таков, каким желательно отцу видеть своего сына».
Как бы часто она ни повторялась, отца моего никогда не раздражала фраза, если казалась ему четкой и выразительной; и сам Аддисон не нашел бы выражений, более для него приемлемых, чем слова: «Письмо ваше получено, прилагаемая расписка заприходована».
И вот, так как мистер Осбалдистон превосходно знал, к чему меня готовит, излюбленная фраза Дюбура не пробуждала в нем сомнений, таков ли я на деле, каким он желал бы меня видеть, – когда в недобрый час он получил мое письмо с красноречивым и подробным обоснованием моего отказа от почетного места в торговом доме, от конторки и табурета в углу темной комнаты на Журавлиной улице – табурета, превосходящего высотой табуреты Оуэна и прочих клерков и уступающего только треножнику моего отца. С этой минуты все разладилось. Отчеты Дюбура стали казаться такими подозрительными, точно его векселя подлежали опротестованию. Я был срочно отозван домой и встретил прием, уже описанный мною.
Мне не пишется… не удивляйтесь.
Потому еще одна небольшая рецензия.
Итак, давайте вернемся к классикам, пусть даже не нашим, а заграничным. Т.е. к уважаемому, думаю, всеми, дядушке Вальтеру Скотту.
Скажу честно, Скотт это вообще один из моих любимых писателей, но «Роб Рой» это одна из самых восхитительных его книг, да и книг вообще.
Итак, начнем с того о чем? Переводя на современный язык – единственный сын богатого торгаша решил, что ему с папочкой не по пути. Он, представьте себе, поэтом захотел стать (знакомо, правда?).
Как он говорит? «Я никогда не продам свою свободу за золото».
За что разгневанный папаша, недолго думая, отсылает сыночка на север Англии, к забытому давно братишке… а своим приемником решает сделать одного из многочисленных племянников. Ну чем не фэнтези? Но это не фэнтези, а самый что ни на есть исторический реализм. И хорошо написанный, кстати.
И тут-то и начинается основной сюжет. Бедный парень попадает в новый для него мир, где и религия другая (то же христианство, но тогда между католиками и протестантами было небольшое… гм… напряжение), и менталитет для него незнакомый, и люди живут совсем иначе. Встречает по дороге свою любовь, оказывается вынужденным просить помощи у предводителя местного восстания.
Ничего не напоминает? Если приглядеться, пристально, слегка напоминает «Капитанскую дочку», и напоминает неспроста. Представьте себе, наш Александр Сергеевич тоже очень даже уважал творчество Вальтера Скотта, и, по слухам, именно «Роб Рой» вдохновил его на написание КД.
И все же возвращаясь к роману. Что мне особо в нем нравится? Естественно то, что и всегда, - герои. Главный герой, Фрэнсис Осбальдистон, это, в общем-то, неплохой юноша, но слегка наивный. Из-за своей наивности и упрямства он влипает в мелкие и крупные неприятности, но тем не менее благороден, добр и даже, изредка, признает свои ошибки.
Очень интересной личностью здесь является и злодей, что вообще-то, к сожалению моему, редкость для такой литературы. Некрасивый от рождения, он тем не менее, обладает острым умом, сводящим с ума голосом, крайне вредным характером и склонностью к интригам.
Характеры, собственно, у Вальтера Скотта всегда выходили потрясающе. Здесь и добродушные, но страшно тупые кузины главного героя, и хитроватый секретарь, и различные образы слуг от верных до дерзких, и таинственная, но прямолинейная возлюбленная героя – Ди, и да, конечно, харизматический предводитель восстания Роб Рой, куда уж без него. Психологичность, узнаваемые характеры, многослойность и множество мелочей, которые полностью погружают в описанную автором эпоху. Легкий налет английского юмора, что тем не менее глубок и заставляет задуматься, из книги можно надергать при желании очень много интересных цитат.
Вальтер Скотт это вообще писатель, который над многим заставляет задуматься, хоть и в чем-то большой романтик.
Помимо этого неплохой сюжет. Дуэли, драки, девица, которую чуть было не выдали насильно замуж, интриги, обвинения в государственной измене и благородные разбойники.
Мне почему-то кажется, что в этой книге каждый, даже очень современный читатель, найдет что-то свое.
- «РОБ РОЙ» (Rob Roy) США при участии Великобритании, 1995, 139 мин. Исторический фильм, драма, приключенческий фильм. Этот фильм представляется чересчур правильным в течение первого часа «бывший Оскар Шиндлер» (ирландскому актеру Лайаму Нисону… … Энциклопедия кино
Роб Рой - (Роберт Макгрегор) (Rob Roy, Robert MacGregor) (1671 1734), шотл. разбойник. Получив в 1688 г. патент на офицерский чин от короля Якова II, использовал его как прикрытие для грабежей и шантажа соседей. Запутавшись в долгах, повел настоящую войну… … Всемирная история
- (Rob Roy Рыжий Роберт) прозвище шотландского разбойника Мак Грегора, жившего около 1700 г. в Пертшире; рассказы о его жизни изукрашены в народных преданиях легендарными подробностями. Р. является героем романа Вальтера Скотта того же имени … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Роб Рой (Rob Roy) может значить: Роберт Рой Макгрегор (1671 1734) национальный герой Шотландии. Роб Рой исторический роман Вальтера Скотта (1817). «Роб Рой, неуловимый разбойник» фильм о Робе Рое (1953). «Роб Рой» фильм с… … Википедия
Роберт Рой Макгрегор Роберт Рой Макгрегор, или Роб Рой (англ. Robert Roy MacGregor, или Rob Roy, от ирл. Raibeart Ruadh рыжий Роберт; 1671 1734) национальный герой Шотландии, разбойник, которого часто называют шотландским Робин Гудом.… … Википедия
У этого термина существуют и другие значения, см. Роб Рой (значения). Роб Рой Rob Roy … Википедия
У этого термина существуют и другие значения, см. Роб Рой (значения). Rob Roy … Википедия
Rob Halford Хэлфорд во время концерта Judas Priest Полное имя Robert John Arthur Halford Дата рождения 25 августа 1951 (57 лет) … Википедия
Роберт Рой Макгрегор Роберт Рой Макгрегор, или Роб Рой (англ. Robert Roy MacGregor, или Rob Roy, от ирл. Raibeart Ruadh рыжий Роберт; 1671 1734) национальный герой Шотландии, разбойник, которого часто называют шотландским Робин Гудом.… … Википедия
Роберт Рой Макгрегор, или Роб Рой (англ. Robert Roy MacGregor, или Rob Roy, от ирл. Raibeart Ruadh рыжий Роберт; 1671 1734) национальный герой Шотландии, разбойник, которого часто называют шотландским Робин Гудом. Содержание … Википедия