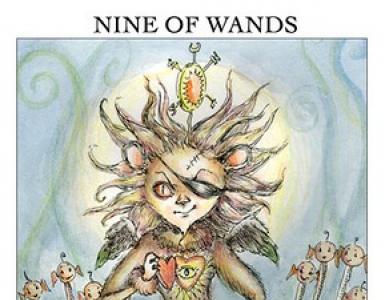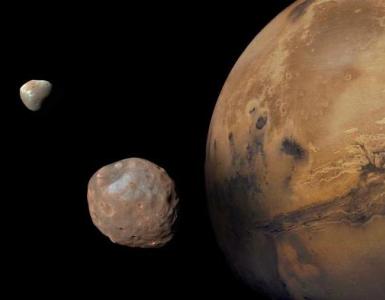Оноре Бальзак: Неведомый шедевр. Неведомый шедевр европейской культуры Совершенное произведение против завершенного бальзак неведомый шедевр
Неведомый шедевр европейской культурыУ Бальзака есть новелла «Неведомый шедевр» - рассказ про художника; старик Френхофер - собирательный образ гения живописи. Такого живописца в реальности не было, Бальзак создал идеального творца, вложил ему в уста манифесты, которые радикальностью превосходят все, сказанное впоследствии в авангардных кружках; Френхофер (то есть сам автор, Бальзак) фактически и придумал новое искусство.
Он первым заговорил о синтезе рисунка и живописи, света и цвета, пространства и объекта; он первым высказал простую - но такую невозможно дерзкую мысль: искусство должно образовать отдельную от реальности - автономную реальность. И, когда это случится, то реальность искусства будет влиять на реальность жизни, преобразовывать ее. Во все предыдущие эпохи считалось, что искусство - отражение жизни. Возможны варианты: идеализация, зеркальное изображение, критическая рефлексия - но вторичное положение по отношению к реальности, зафиксированное Платоном, никогда не подвергалось сомнению. То, что прекрасное распадается на дисциплины: живопись, скульптура, поэзия, музыка - связано именно с тем, что искусство выполняет своего рода служебную функцию по отношению к жизни, и требуется то в одной области, то в другой. Но когда искусство станет всеобъемлющим, то его служебная роль уйдет.
Синтез искусств - покушение на изменение его статуса. Синтез всех искусств - это и есть главная мысль авангарда; искусством, собственно говоря, авангардисты заменили религию. Мысль о синтезе искусств готовили долго - о светносности цвета писал Гете, нечто о синтезе искусств можно найти у Вельфлина; вообще немецкое просвещение ставит проблему синтеза. Но одно дело поставить проблему, совсем иное дело предложить ее практическое решение. Бальзак, который и сам был гением (правда, в литературе, но это почти то же самое - хороший писатель рисует словом), описал гения живописи и его метод работы; метод - то есть то, как именно надо класть мазки, чтобы искомый синтез появился. Сохранилось свидетельство: когда Сезанну зачитали пару абзацев «Неведомого шедевра» (прочитал ему Эмиль Бернар), то Сезанн от волнения даже слов не нашел; он лишь прижал руку у груди, - хотел показать, что рассказ написан именно про него.
Это как раз именно Сезанн так располагал свои мазки - ударит кистью в одном месте, потом в другом и еще во-о-он там, в углу холста, чтобы создать впечатление движущейся воздушной массы, густого, напоенного цветом воздуха; это именно Сезанн всякое пятно воспринимал предельно ответственно - на его холстах остались незакрашенные сантиметры: он сетовал, что не знает, какой именно цвет положить на этом кусочке холста. Так получалось потому, что Сезанн требовал от цветного мазка сразу несколько функций: передать цвет, фиксировать пространственную удаленность, стать элементом строительства общего здания атмосферы.
И слушая, как Бернар читает ему описание работы Френхофера (выборочное прикосновение кистью к разным частям холста: «Паф! Паф! Мои мазочки! Вот как это делается, юноша!») - Сезанн пришел в неистовство, оказывается, он на верном пути: ведь он как раз именно так и работал.
Всякий мазок Сезанна это синтез цвета и света, синтез пространства и объекта - оказывается, Бальзак этот синтез предвидел. Пространство - это Юг, Италия, голубой воздух, перспектива, придуманная Паоло Учелло. Объект - это Север, Германия, въедливый рисунок Дюрера, пронзительная линия, ученый анализ. Север и Юг распадались политически, религиозные войны распад закрепили: Юг католический, Север протестантский. Это две разные эстетики и два несхожих стиля рассуждения. Слить Юг и Север воедино - была мечта всякого политика, со времен Карла Великого, и вековая политическая драма Европы состоит в том, что распадающееся на части наследство каролингов пытались собрать воедино, а упрямое наследство рассыпалось, не слушалось политической воли; Оттон, Генрих Птицелов, Карл Пятый Габсбург, Наполеон, проект Соединенных штатов Европы де Голля - это все затевалось ради великого плана объединения, ради синтеза пространства и объекта, Юга и Севера.
Но если у политиков это получалось коряво, а порой даже чудовищно - то художник обязан явить решение на ином уровне. Устами Френхофера сформулирован упрек европейскому искусству того времени, которое следует непосредственно за Ренессансом. То было время без внятной программы: Священная Римская империя распадалась на национальные государства, единый замысел Ренессанса умер. Дидактику Ренессанса заменили манерные жанровые сцены. Историки искусства иногда называют «маньеризм» промежуточным стилем между Ренессансом и Барокко, иногда именуют барокко своего рода развившимся до государственных масштабов маньеризмом.
То была демисезонная, эклектичная эпоха; Европа искала себя. Обращенный к французскому искусству, упрек Френхофера относится ко всему межеумочному европейскому искусству в целом - это диагноз. «Ты колебался между двумя системами, между рисунком и краской, между флегматичной мелочностью, жестокой точностью старых немецких мастеров и ослепительной страстностью благостной щедростью итальянских художников. Что же получилось? Ты не достиг ни сурового очарования сухости, ни иллюзии светотени». И далее Френхофер развивает идею синтеза - почерпнутую им у его учителя, таинственного Мабузе; художник Мабузе якобы владел тайной синтеза Севера и Юга («о Мабузе, великий учитель, ты похитил мое сердце!»).
Мабузе - это прозвище реально жившего художника Яна Госсарта, классического бургундского живописца, ученика Герарда Давида. Бальзак сознательно оставляет нам столь точный адрес своей утопии - он дает идеальной живописи конкретную прописку. Осталось только проследить, куда именно Бальзак указывает. Вообще говоря, история искусств, подобно Ветхому Завету, обладает качеством представлять - всю хронологию человечества. Не пропуская ни единой минуты. «Авраам родил Исаака», и так далее по всем рода и коленам - можем легко дойти Девы Марии; в истории искусств ровно то же самое; надо быть внимательным, ничего не упустить. Ян Госсар, прозванный Мабузе, учился у Герарда Давида, тот учился у Ганса Мемлинга, великого художника из Брюгге, а уж Ганс Мемлинг был учеником несравненного Роже ван дер Вейдена, а Роже - у Робера Кампена; этот перечень имен едва ли не самый значительный в истории мирового искусства.
Достаточно сказать, что без Роже ван дер Вейдена, который воспитал личным примером художников Итальянского Возрождения, - итальянское Кватроченто было бы иным. Все, перечисленные выше, художники иногда именуются «ранними нидерландскими мастерами» - это неточное обозначение: никаких Нидерландов в то время не существовало; упомянутые мастера являются гражданами герцогства Бургундского, могущественного государства, объединившего земли современной Франции (Бургундию), современных Нидерландов и Бельгии, а так же северной Германии (Фрисландию). Эстетические взгляды этих людей, их манера письма, образная структура их произведений - относится отнюдь не к Нидерландской живописи (говоря о Нидерландской живописи, мы невольно воображаем школу Рембрандта или Вермеера); но в данном случае - эстетические принципы совсем иные, совсем несхожие с более поздним искусством Голландии.
Герцогство Бургундское, возникшее в конце 14-го века, объединяло Юг и Север Европы, соединяло традиции Франции и Голландии самым естественным образом - соответственно, искусство средневековой Бургундии и было тем желанным синтезом, о котором говорит персонаж Бальзака. То было сочетание щедрого цвета и сухой формы; соединение бесконечной солнечной перспективы и лаконичной, волевой характеристики персонажа. Героями Бургундской живописи, как правило, являются люди рыцарского сословия и их дамы; художники описывают жизнь церемонного двора - а двор Бургундии в то время превосходил двор Франции пышностью и богатством. Основанием возникновения герцогства Бургундского был рыцарский подвиг: в битве при Пуатье сын французского короля Иоанна II,14-летний Филипп, не покинул отца в минуту смертной опасности. Они сражались пешими, окруженные всадниками; остались вдвоем - старшие братья и сенешали бежали.
Подросток встал позади отца, закрывая отца от предательского удара, и, глядя по сторонам, предупреждал: «Государь-отец, опасность справа! Государь-отец, опасность слева!». Этот великий эпизод истории (запечатленный, кстати сказать, Делакруа - см. картину «Битва при Пуатье»), стал причиной того, что Филиппу Храброму, младшему из четырех сыновей, которому корона никак не могла бы достаться, выделили герцогство. Бургундию отдали в апанаж (т. е. в свободное управление до тех пор, пока не прервется династия Филиппа). Так образовалась отдельная от Франции территория, так возникло государство, быстро ставшее самым могущественным в центральной Европе. К тому времени как внук Филиппа - герцог Карл Смелый Бургундский стал соперником Людовика XI Французского и начал спорить о том, что кому принадлежит - Бургундия, Франции или наоборот, - к этому времени превосходство Бургундии стало очевидным во многих аспектах. То, что своим возникновением герцогство было обязано рыцарскому подвигу, сделало рыцарский кодекс государственной идеологией. Это весьма странное явление для феодальной Европы, и уж тем более для абсолютистской Европы, которая тогда возникала. Иерархия отношений вассальной знати и короля (монарх - и бароны, царь - и бояре), бывшая основным сюжетом прочих европейских дворов, в Бургундии была заменена рыцарским этикетом. Расширение территорий за счет удачных браков, свобода и богатство ремесленных цехов - все это выделяло Бургундию среди тех стран, которые захватывали земли ценой обильной крови вассалов, права которых делались в условиях Столетней войны ничтожными.
Бургундия лавировала в Столетней войне, примыкая то к одной, то к другой враждующей стороне, часто выступала на стороне англичан; эту же тактику - позволявшую герцогству расти и сохранять независимость - переняли города самого герцогства, которые вытребовали себе и своим цехам столько прав, сколько не снилась городам соседних государств. Формальный административный центр герцогства находился в Дижоне, но куртуазный двор путешествовал, часто менял столицы, создавая культурный центр то в Дижоне, то в Генте, то в Брюгге, то в Брюсселе, то в Антверпене. Имеется в виду не то, что интеллектуальный центр постоянно смещается - так, вскоре после распада Бургундского герцогства, таким центром притяжения искусств стал уже не Брюссель, не Антверпен и не Брюгге, но таковым стал Лион, сделавшийся на некоторое время приютом гуманистических знаний. Франсуа Рабле, Бонавентур Деперье и прочие искали в Лионе прибежища, гуманисты, бежавшие из Парижа, группировались вокруг странного двора Маргарины Наваррской. Новыми центрами притяжения последовательно становились разные города: интеллектуальная география Европы насыщена. Но в данном случае речь об ином; Бургундское герцогство, совмещавшее традиции латинской куртуазности и нидерландской педантичности - явило тот синтез, о коем беспокоился Френхофер; отсюда и пространственные перемещения двора.
Искомое единение персонализма и общественной морали, красочности и линеарности - было присуще бургундской культуре просто по факту возникновения этой странной страны; это была очень подвижная культура. Возникло особое сочетание куртуазной южной легкости, унаследованной от французской составляющей культуры, и северной строгости - в изобразительном искусстве это дало поразительный результат.
Художник герцогства Бургундского - он, конечно, был художником двора, но неизменного двора не существовало, структура отношений скорее напоминала взаимоотношения внутри итальянских городов-государств того времени, нежели, например, мадридский Эскориал или двор Лондона. Ван Эйки работали в Генте, Менлинг в Брюгге, ван дер Вейден провел жизнь в путешествиях, меняя города; существует определение, данное историком Хейзингой: «франко-брюссельская культура» - помимо прочего, это сочетание символизирует своеобразную гибкость отношений с культурным паттерном. Культура такой страны-симбиоза естественным образом сочетала несочетаемое, добивалась того, о чем мечтал бальзаковский герой.
Можно сказать, что в таком искусстве была явлена квинтэссенция европейского сознания. Бургундскую живопись легко выделить из прочей. Вы попадаете в зал с бургундскими мастерами, и ваше восприятие обостряется: так бывает, например, при неожиданно ярком свете: вы вдруг видите предметы отчетливо; так бывает при чтении очень ясного философского текста, когда автор находит простые слова для обозначения понятий. Вы заходите в зал с картинами Робера Кампена, Роже ван дер Вейдена, Дирка Боутса, Ханса Мемлинга - и возникает чувство, что вам рассказывают только существенное, порой неприятное и колючее, но такое, что знать безусловно необходимо.
В бургундской живописи крайне сильно понятие «долг» - вероятно унаследованное от рыцарского кодекса. То, что итальянский, голландский, германский художник может не заметить (морщину, одутловатость, кривизну и т. п.) бургундец поместит на видное место. Острые края, колючая пластика, точные детали - нет ни единой линии, не додуманной до конца. Тема святого Себастиана любима за проникновенность боли: Мемлинг нарисовал расстрел святого с той же жестокостью, как изобразил «Расстрел 3-го мая» Гойя: мучители бьют из луков в упор. Стреляют, выбирая место, куда вогнать стрелу. И такое проникающе-въедливое отношение к предмету - является главной характеристикой бургундского искусства. Взгляды героев пристальны и протяженны, тянутся сквозь картину к предмету изучения; жесты стремительные и хваткие, клинки мечей узкие и отточенные. Высокие скулы, орлиные носы, длинные цепкие пальцы. От колючести взглядов - внимательность к деталям; бургундская живопись придирчива к оттенкам мысли и нюансам настроения. Им недостаточно сказать в общем и целом, этим живописцам - надо все рассказывать предельно точно.
В такой атмосфере рождается живописный язык, ставший квинтэссенцией европейского мировосприятия - именно Бургундия изобрела масляную живопись. Только этой техникой можно передать нюансы чувств. Дело не в подробном рисовании: мелкую деталь можно нарисовать и темперой, но вот вибрацию настроения, переход эмоции изобразить можно лишь масляными красками. Масляная живопись дает то, что дает в литературе сложная фраза с деепричастными оборотами: можно добавить, усилить, уточнить сказанное.
Возникло сложное письмо, в несколько слоев; речь усложнили предельно; по яркому подмалевку стали писать лессировками (т. е. прозрачными наслоениями). Так в пятнадцатом веке в Бургундии, на основании синтеза Северной и Южной Европы возник изощренный язык искусства, масляная живопись, без которой нельзя представить изощренного европейского сознания. Технику масляной живописи изобрели братья ван Эйки - пигмент стали разводить льняным маслом. Прежде краска была кроющей, непрозрачной; цвет мог быть ярким, но никогда не был сложным; после Ван Эйка европейское утверждение перестало быть декларативным и сделалось глубокомысленным, многовариантным. Техника масляной живописи олицетворяет университетскую и соборную Европу, в своей сложности масляная живопись схожа с ученым диспутом схоластов. Подобно тому, как университеты усваивали порядок обсуждения проблемы, так и высказывание художника обретало внутреннюю логику и обязательное развитие: тезис-антитезис-синтез. Живопись масляными красками предполагала последовательность: определение темы, посылку, основной тезис, развитие, контраргументацию, обобщение, вывод.
Это стало возможно только тогда, когда появилась прозрачная субстанция краски. Масляную живопись заимствовал из Бургундии и перевез в Италию сицилийский мастер Антонелло де Мессина, который провел в Бургундии несколько лет, а затем работал в Венеции. Техника масляной живописи была усвоена мастерами итальянского кватроченто, масляная живопись потеснила фреску и темперу и изменила венецианскую живопись и живопись Флоренции. Без техники масляной живописи не было бы сложного и многосмысленного Леонардо, только масло сделало возможным его сфумато.
Вся сложность европейской живописи, - а европейское изобразительное искусство ценно именно сложностью высказывания, - возможно лишь благодаря технике братьев Ван Эйк. Ни полумрак Рембрандта, ни тенеброзо Караваджо не были бы возможны в иной технике - как невозможен был бы без правил университетской дискуссии свободный слог Эразма (к слову сказать, Эразм Роттердамский работал на территории герцогства Бургундского). Здесь уместно заметить, что первое, от чего отказалось современное нам гламурное изобразительное искусство - это масляная картина: сложность и многозначность стали для моды обузой. В те годы масляная живопись символизировала расцвет Европы, обретение собственного языка.
Решающим для эстетики Возрождения было пребывание Роже ван дер Вейдена при феррарском дворе в Северной Италии. Герцог Лионелло дэ Эсте, правитель Феррары, собрал у себя величайших мастеров века - из Бургундии был зван Роже ван дер Вейден. Он был старше коллег Андреа Мантеньи, Джованни Беллини и Козимо Туро, работавших там же; влияние ван дер Вейдена на итальянцев было сокрушительным - он привил к итальянскому Возрождению особую интонацию. Это твердая, немного суховатая сдержанная манера, избегающая излишне громких фраз; это спокойная речь сильного человека, не нуждающегося в повышенных тонах - но нагнетающего напряжение неумолимой последовательностью. Манера Роже ван дер Вейдена - это то, что силился передать в характеристике ранних мастеров Ван Гог, когда писал: «Поразительно, как можно оставаться хладнокровным, испытывая такую страсть и напряжение всех сил».
Избранные итальянские мастера научились этому у Роже. Сжатая в кулак страсть Андреа Мантеньи, подавленная истерика Козимо Туро, сухая патетика Беллини - этому они научились у рыцарственного ван дер Вейдена; и это свойства рыцарской бургундской культуры. Сочетание изысканного (сложного, изощренного знания) и надрывного переживания - очень странное сочетание. Обычно истовость религиозного искусства предполагает прямоту выражения, лаконичность письма; икона Спас Ярое Око являет нам лицо Спасителя, который смотрит прямо и яростно, Мадонна Мизерикордия (славянский аналог: Богоматерь Умиление) укрывает страждущих небесной орифламмой (русское звучание: покрова Богородицы) смиренно и тихо. Но бургундские святые и мученики Мантеньи переживают веру, как персональный подвиг, отдаются вере с той страстью, которая граничит с экстазом. Это не манерность, не позерство, это всего лишь рыцарский ритуал, ставший сакральным; соединение любви небесной и любви земной, которое естественно для рыцарской этики - (см. Пушкин: «Он себе на шею четки вместо шарфа повязал»).
Бургундская пластика не противопоставляет эти два начала Aphrodita Urania - Aphrodita Pandemos, но находит единение сугубо естественным. Культ Прекрасной Дамы воплощает в себе и религиозный экстаз; дама сердца - представляет Богоматерь; куртуазная любовь - это светский ритуал и молитва, все вместе. Это исключительно важно для эстетики Бургундии, рыцарской культуры средневековья, шагнувшей к гуманизму; мы привыкли чертить путь европейского гуманизма от Античности к Итальянскому Ренессансу и уже оттуда, через протестантизм, к Просвещению; но Бургундское герцогство существует параллельно с Флоренцией Медичи - история Бургундии столь же прекрасна и столь же коротка; эта яркая вспышка - как и Венецианская республика, как и Флоренция Медичи - своего рода культурный эксперимент.
Бургундское искусство было готическое и чувственное одновременно, религиозное и в то же время куртуазное. Готика отрицает природное начало, готика стремится вверх, шпилями соборов протыкает небо, готические герои сделаны из жил и долга, плоти и радости не существует. А у бургундских героев особая стать - их страсть одновременно и земная и экстатическая. Если передать суть бургундской манеры в одном предложении, сказать надо так: это переживание религиозного начала как персонального чувственного опыта, это светская религиозность, то есть то, что характерно для кодекса рыцарства. Страсть к Богоматери как к Даме сердца, - именно этот кодекс рыцарства лег в основу эстетических канонов бургундского художественного языка.
Глядя на картины бургундских мастеров, кажется, что в эти годы в центре Европы вывели особую породу людей - впрочем, мы ведь не удивляемся особой пластике венецианцев на картинах Тинторетто, округлым линиям фигур и вязкой цветовой гамме воздуха; так почему же не увидеть в картинах бургундских художников свой необычайный культурный гибрид в каждом жесте, в пластике персонажей. Так возникли аскетические лики, типичные для картин Дирка Боутса или Ханса Мемлинга, - несколько удлиненные лица, с глубоко запавшими, истовыми глазами; длинные шеи, эльгрековские пропорции вытянутых тел.
Сказанное ни в коем случае не означает идеализации; ее у бургундцев было куда меньше нежели у их итальянских коллег; рисуя своих патронов Робер Кампен и Роже ван дер Вейден отдавали им должное по всем статьям. Рыцарство Бургундского двора (главный орден рыцарской доблести - орден Золотого руна - учрежден именно здесь в 1430-м году), независимое положение герцогства - поддерживали интригами; политика лавирования не способствует моральному поведению.
Жанна д. Арк была захвачена в плен бургундцами и продана англичанам на мученическую смерть. Ван дер Вейден оставил потомкам портрет герцога Филиппа Доброго, - учредившего орден Золотого Руна и предавшего Орлеанскую Деву - перед нами аккуратный, бледный от морального ничтожества человек, думающий про себя, что он демиург. Ван дер Вейден, предвосхищая Франсиско Гойю или Георга Гросса - писал беспощадно и едко. Но сущность его искусства - оставалась неизменной, писал ли он святого или сановного мерзавца. Странный для нас сегодня сплав чувственного и южного и северного культурных начал - в сущности, был ничем иным, как той самой «европейской идеей», ради которой объединялась всякий раз Европа. Когда Бургундское герцогство распалось - и образовались искусства национальное, которые мы сегодня знаем как голландское и фламандское, они уже данного синтеза явить не могли. После смерти Карла Смелого Нидерланды отошли Испании, Людовик XI французский вернул бургундские земли французской короне. Фламандское и голландское искусство, возникшее на руинах Бургундии, в принципе отрицало бургундскую эстетику. Мясные лавки, рыбные ряды, толстые красавицы и жирная живопись фламандских мастеров - это прямая противоположность Гансу Мемлингу, Дирку Боутсу и Роже ван дер Вейдену.
Поразительно, что на том же самом месте растет та же виноградная лоза, но вино совершенно иное. Бальзаковский герой Френхофер отзывается о живописи фламандца Рубенса крайне нелестно: «...полотна этого наглеца Рубенса с горами фламандского мяса, присыпанного румянами, потоками рыжих волос и кричащими красками». Помимо прочего, эта фраза любопытна тем, что Бальзак в ней разводит свою эстетику и эстетику Рубенса; хотя их принято сравнивать. Стало общим местом уподоблять изобильное, щедрое письмо Бальзака - изобильному рубенсовскому тесту живописи; Бальзак, однако, считал иначе - для него Рубенс был слишком плотским и материальным - Бальзак же писал мысль; щедрую, сочную, яркую - но мысль, а не плоть. И в этом он ученик бургундской школы - ученик ван дер Вейдена, но не Рубенса.
Культура, однако, обладает особенностью хранить свой генофонд долго - так, феноменология духа Бургундии выжила внутри Голландской и Фламандской культур; феномен творчества Иеронима Босха, родившегося на закате Бургундского герцогства, показывает нам все то же поразительное сочетание эстетик Севера и Юга; но в еще больше степени это потрясает, когда думаешь о наследии фламандца по рождению, но бургундца по духу - Брейгеля.
Питер Брейгель-старший, художник Севера, но с такой звонкой южной палитрой, наследник бургундца Босха и в отношении композиции прямой наследник братьев Лембрук (бургундских миниатюристов) и несомненный продолжатель пластики Ханса Мемлинга - Питер Брейгель представляет поразительный пример того, как культурная парадигма, единожды явленная, проявляется опять и опять. И совсем невероятным возвращением идеи бургундской культуры следует считать явление гениального Винсента Ван Гога, заново синтезировавшего Юг и Север. Бургундская культура проснулась в нем, в голландце, переехавшем на юг Франции, органически сочетавшем в себе строгую суровость Нидерландов и голубой воздух южной перспективы. Кажется невероятным, что живописец, начавший свое творчество с мрачного колорита и жестких обобщенных форм, перешел к сверкающей палитре и вихревым мазкам; объясняют этот переход влиянием импрессионизма (то есть модного в те годы течения).
Но в том-то и дело, что Ван Гог увлекся импрессионизмом ненадолго, мода затронула его по касательной; он оставил и приемы пуантилизма, и дробный мазок импрессионизма - практически мгновенно: данная техника занимала его ровно на время пребывания в Париже. Арльский период - это уже нечто иное; невиданные для пастельного импрессионизма цвета, невероятные для импрессионизма экспрессивные формы. Причем - и это важно - голландский период словно бы подспудно воскрес: в последних полотнах (их порой именует «возвращение Северного стиля») воскресает стилистика голландского периода - но уже неразрывно с южной динамикой и колоритом. Этот сплав - есть не что иное, как «ген Бургундии» - Ван Гог воскресил в своем творчестве тот органичный сплав Севера и Юга Европы, который дало герцогство Бургундское в 15-ом веке.
Да, герцогства Бургундского больше нет, объединенная Европа как обычно заканчивает очередной проект - очередным фиаско, но культурная генетическая память живет. В финале «Неведомого шедевра» Бальзака - звучит неутешительный диагноз состоянию современной Европы; и в отношении авангарда, и в отношении возможного синтеза искусств, и, собственно, европейского единства - перспектив не видно.
Выясняется, что усилия синтеза - бесплодны. Новелла завершается тем, что почитатели гениального Френхофера получают приглашение в мастерскую гения - наконец они смогут увидеть шедевр, который мастер пишет много лет и скрывает от глаз. Великий живописец, открывший секрет синтеза света и цвета, пространства и объекта, линии и краски (а мы подставим сюда: Севера и Юга, свободы и порядка, и т. п.) - он уже несколько лет пишет прекрасную женщину, символ гармонии. Посетители ждут, что сейчас увидят саму красоту. Вот они уже в мастерской, художник срывает занавес с картины, и зрители не видят ничего - только пятна, только нелепую мешанину красок, бессмысленные сочетания, сумбурную абстракцию. Кажется, под этой красочной кашей спрятана красавица, но художник, в ходе своей фанатичной и бессмысленной работы - просто замазал ее, уничтожил антропоморфные черты.
Художник работал истово - но сделал прямо противоположное задуманному. Не так ли разрушало себя европейское антропоморфное искусство? Можно считать эти страницы предсказанием будущего: так именно и случилось с западным искусством, искавшим синтез и в итоге поисков уничтожившего человеческий образ, тот самый замысел, ради которого и шла работа. Антропоморфное искусство было сметено абстракцией в ХХ веке - гуманизм вытеснили из творчества в ходе синтеза искусств, авангард не пожалел традицию, а, коль скоро традиция была связана с феноменом человека, следовательно не пожалели образ человека.
Бальзак этот процесс дегуманизации искусства, расчеловечивания - предвидел.
Планомерное разложение общего языка на функции речи - постепенно привело к тому, что отдельное лингвистическое упражнение сделалось важнее содержания речи. Закономерно случилось так, что цельный человеческий образ в Европе последних веков воплощают лишь диктатуры - в статуях колоссах и агитационных плакатах; а творчество демократий образ человека создать не в силах. Мы находим выражение свободы в шутках обериутов, в отрывочных репликах концептуализма, в нарочитой недосказанности абстракции - но, помилуйте, духовное это - стремление к созданию цельного мира, тем и важно, тем и интересно! А цельного мира нет.
Можно также считать, что в новелле Бальзака описано бесплодие европейского политического объединения, постоянная неудача партии гибеллинов; вечно обреченная на попытки объединения и вечно распадающаяся Европа, подобно античному Сизифу, совершает бесконечное восхождение в гору и всегда спускается вниз, побежденная. В таком случае, мешанина красок на холсте - это портрет красавицы Европы, потерпевшей поражение в попытках соединить несоединимое, потерявшей себя. Европа есть, но вместе с тем, ее и нет - она постоянно прячется. Можно также допустить, что Бальзак создал образ эйдоса - то есть того идеального синтеза сущностей, о котором рассуждает Платон; эйдос - это единство смыслов.
Мы знаем, как выглядел Бог - Микеланджело нарисовал его портрет; мы знаем, как выглядел Христос - есть тысячи изображений; но не знаем, как выглядит эйдос - вот Бальзак и предлагает возможный вариант. А то, что эйдос нам не четко виден, так Платон об этом, собственно, и предупреждал: нам дано увидеть лишь тень на стене пещеры - тень от больших свершений, проходящих вне нашего сознания и бытия.
Сказанное не должно, впрочем, звучать излишне пессимистично. Европа - хрупкий организм, и одновременно неимоверно стойкий организм; она погибала уже много раз, и ее искусство уже неоднократно приходило в упадок. В финале «Неведомого шедевра» безумный Френхофер, неожиданно осознав, что на полотне ничего нет - «а я проработал десять лет!» - умирает, сжигая предварительно все свои картины. Но разве сжигание картин - нечто из ряда вон выходящее? Горящими картинами в Европе не удивишь. Свои картины сжег Сандро Боттичелли на «костре суеты» во Флоренции; картины «дегенеративного искусства» сжигали на площадях Мюнхена и Берлина; в пожаре Флоренции погибла фреска Микеланджело «Битва при Кашина», расплавилась скульптура Леонардо. Иконы вырывали из окладов и жгли иконоборцы и революционеры; от образного искусства отказывались столько раз, что это лишь вселяет надежду в тех, кто образ воскрешает. Европа была выкошена Черной смертью, Столетней войной, религиозными войнами, гражданскими войнами ХХ века, которые переросли в мировые - Европе не привыкать гибнуть и восставать из пепла, это ее обычное занятие.
Смертельная болезнь Европы есть ее перманентное состояние, это ее своеобразное здоровье. Сама Европа и есть тот самый несостоявшийся синтез искусств и ремесел, философских концепций и политических проектов, который - подобно картине Френхофера - иногда кажется невнятной нелепицей, абсурдом, смысловой кашей - но неожиданно в этом вареве просверкивает бриллиант мысли, и рождается Кант или Декарт. Как бы то ни было, лучшего художника, чем Френхофер, человеческая история вероятно не знает - и оттого что мы не понимаем его замысла, еще не следует, что этот замысел плох. Да, на холсте Френхофера посетители увидели бессмысленное сочетание пятен; но и на холстах Сезанна видели бессмысленное сочетание пятен. Говорят, что «дураку половину работы не показывают»; вполне возможно, что Френхофер показал зрителям просто незавершенный холст - повремените с суждением: пройдет некоторое время, и мастер завершит свой шедевр.
Страница 3
Философские этюды. «Неведомый шедевр» (1830) посвящен соотношению правды жизни и правды искусства. Особенно важны позиции художников Порбуса (Франсуа Порбус Младший (1570-1620) - фламандский художник, работавший в Париже) и Френхофера - личности, вымышленной автором. Столкновение их позиций раскрывает отношение Бальзака к творчеству. Френхофер утверждает: «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую копию с женщины. Нам должно схватывать душу, смысл, движение и жизнь». Сам Френхофер задается невыполнимой и противоречащей подлинному искусству целью: он хочет на полотне с помощью красок создать живую женщину. Ему даже кажется, что она ему улыбается, что она - его Прекрасная Нуазеза - дышит, весь ее облик, физический и духовный, превосходит облик реального человека. Однако это идеальное и идеально выполненное существо видит только сам Френхофер, а его ученики, в том числе и Порбус, в углу картины разглядели «кончик голой ноги, выделявшейся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность - кончик прелестной ноги, живой ноги». Увлеченность, с одной стороны, формой, а с другой - желанием поставить искусство выше действительности и подменить им реальность привела гениального художника к катастрофе. Сам Бальзак, не принимая ни субъективности, ни копирования в искусстве, убежден, что оно должно выражать природу, схватывать ее душу и смысл.
Философскую повесть «Шагреневая кожа» (1831) автор назвал «формулой нашего теперешнего века, нашей жизни, нашего эгоизма», он писал, что все в ней - «миф и символ». Само французское слово le chagrin может быть переведено как «шагрень» (шагреневая кожа), но оно имеет омоним, едва ли неизвестный Бальзаку: le chagrin - «печаль, горе». И это немаловажно: фантастическая, всемогущая шагреневая кожа, дав герою, избавление от бедности, на самом деле явилась причиной еще большего горя. Она уничтожила способность к творческим дерзаниям, желание наслаждаться жизнью, чувство сострадания, объединяющее человека с себе подобными, уничтожила, в конечном счете, духовность того, кто обладает ею. Именно поэтому Бальзак заставил разбогатевшего банкира Тайфера, совершив убийство, одним из первых приветствовать Рафаэля де Валантена словами: «Вы наш. Слова: «Французы равны перед законом» - отныне для него ложь, с которой начинается хартия. Не он будет подчиняться законам, а законы - ему». В этих словах действительно заключена «формула» жизни Франции XIX в. Изображая перерождение Рафаэля де Валантена после получения миллионов, Бальзак, используя условность, допустимую в философском жанре, создает почти фантастическую картину существования человека, ставшего слугой своего богатства, превратившегося в автомат. Сочетание философской фантастики и изображения действительности в формах самой жизни составляет художественную специфику повести. Связывая жизнь своего героя с фантастической шагреневой кожей, Бальзак, например, с медицинской точностью описывает физические страдания Рафаэля, больного туберкулезом. В «Шагреневой коже» Бальзак представляет фантастический случай как квинтэссенцию закономерностей своего времени и обнаруживает с его помощью основной социальный двигатель общества - денежный интерес, разрушающий личность. Этой цели служит и антитеза двух женских образов - Полины, которая была воплощением чувства доброты, бескорыстной любви, и Феодоры, в образе этой героини подчеркнуты присущие обществу бездушие, самолюбование, честолюбие, суетность и мертвящая скука, создаваемые миром денег, которые могут дать все, кроме жизни и любящего человеческого сердца. Одной из важных фигур повести является антиквар, открывающий Рафаэлю «тайну человеческой жизни». По его словам, а в них отражены суждения Бальзака, которые получат непосредственное воплощение в его романах, человеческая жизнь может быть определена глаголами «желать», «мочь» и «знать». «Желать - сжигает нас, - говорит он, - а мочь - разрушает, но знать дает нашему слабому организму возможность вечно пребывать в спокойном состоянии». В состоянии «желать» находятся все молодые честолюбцы, ученые и поэты - Растиньяк, Шардон, Сешар, Валантен; состояния «мочь» достигают лишь те, кто обладает сильной волей и умеет приспосабливаться к обществу, где все продается и все покупается. Лишь один Растиньяк сам становится министром, пэром, женится на наследнице миллионов. Шардону временно удается достичь желаемого с помощью беглого каторжника Вотрена, Рафаэль де Валантен получает губительную, но всемогущую шагреневую кожу, которая действует, как Вотрен: дает возможность приобщиться к благам общества, но за это требует покорности и жизни. В состоянии «знать» находятся те, кто, презирая чужие страдания, сумел приобрести миллионы, - это сам антиквар и ростовщик Гобсек. Они превратились в слуг своих сокровищ, в людей, подобных автоматам: автоматическая повторяемость их мыслей и действий подчеркивается автором. Если же они, как старый барон Нюсинжен, вдруг оказываются одержимы желаниями, не связанными с накоплением денег (увлечение куртизанкой Эстер - роман «Блеск и нищета куртизанок» («Splendeurs et miseres des courtisanes»), то становятся фигурами одновременно зловещими и комическими, ибо выходят из свойственной им социальной роли.
В конце 1612 года холодным декабрьским утром какой-то юноша, весьма легко одетый, шагал взад и вперед мимо двери дома, расположенного по улице Больших Августинцев, в Париже. Вдоволь так нагулявшись, подобно нерешительному влюбленному, не смеющему предстать перед первой в своей жизни возлюбленной, как бы доступна та ни была, - юноша перешагнул наконец порог двери и спросил, у себя ли мэтр Франсуа Порбус. Получив утвердительный ответ от старухи, подметавшей сени, юноша стал медленно подыматься, останавливаясь на каждой ступеньке, совсем как новый придворный, озабоченный мыслью, какой прием окажет ему король. Взобравшись наверх по винтовой лестнице, юноша постоял на площадке, все не решаясь коснуться причудливого молотка, украшавшего дверь мастерской, где, вероятно, в тот час работал живописец Генриха IV, забытый Марией Медичи ради Рубенса. Юноша испытывал то сильное чувство, которое, должно быть, заставляло биться сердца великих художников, когда, полные юного пыла и любви к искусству, они приближались к гениальному человеку или к великому произведению. У человеческих чувств бывает пора первого цветения, порождаемого благородными порывами, постепенно ослабевающими, когда счастье становится лишь воспоминанием, а слава - ложью. Среди недолговечных волнений сердца ничто так не напоминает любовь, как юная страсть художника, вкушающего первые чудесные муки на пути славы и несчастий, - страсть, полная отваги и робости, смутной веры и неизбежных разочарований. У того, кто в годы безденежья и первых творческих замыслов не испытывал трепета при встрече с большим мастером, всегда будет недоставать одной струны в душе, какого-то мазка кисти, какого-то чувства в творчестве, какого-то неуловимого поэтического оттенка. Некоторые самодовольные хвастуны, слишком рано уверовавшие в свою будущность, кажутся людьми умными только глупцам. В этом отношении все говорило в пользу неизвестного юноши, если измерять талант по тем проявлениям первоначальной робости, по той необъяснимой застенчивости, которую люди, созданные для славы, легко утрачивают, вращаясь постоянно в области искусства, как утрачивают робость красивые женщины, упражняясь постоянно в кокетстве. Привычка к успеху заглушает сомнения, а стыдливость и есть, быть может, один из видов сомнения.
Удрученный нуждой и удивляясь в эту минуту собственной своей дерзновенности, бедный новичок так и не решился бы войти к художнику, которому мы обязаны прекрасным портретом Генриха IV, если бы на помощь не явился неожиданный случай. По лестнице поднялся какой-то старик. По странному его костюму, по великолепному кружевному воротнику, по важной, уверенной походке юноша догадался, что это или покровитель, или друг мастера, и, сделав шаг назад, чтобы уступить ему место, он стал его рассматривать с любопытством, в надежде найти в нем доброту художника или любезность, свойственную любителям искусства, - но в лице старика было что-то дьявольское и еще нечто неуловимое, своеобразное, столь привлекательное для художника. Вообразите высокий выпуклый лоб с залысинами, нависающий над маленьким, плоским, вздернутым на конце носом, как у Рабле или Сократа; губы насмешливые и в морщинках; короткий, надменно приподнятый подбородок; седую остроконечную бороду; зеленые, цвета морской воды, глаза, которые как будто выцвели от старости, но, судя по перламутровым переливам белка, были еще иногда способны бросать магнетический взгляд в минуту гнева или восторга. Впрочем, это лицо казалось поблекшим не столько от старости, сколько от тех мыслей, которые изнашивают и душу и тело. Ресницы уже выпали, а на надбровных дугах едва приметны были редкие волоски. Приставьте эту голову к хилому и слабому телу, окаймите ее кружевами, сверкающими белизной и поразительными по ювелирной тонкости работы, накиньте на черный камзол старика тяжелую золотую цепь, и вы получите несовершенное изображение этого человека, которому слабое освещение лестницы придавало фантастический оттенок. Вы сказали бы, что это портрет кисти Рембрандта, покинувший свою раму и молча движущийся в полутьме, столь излюбленной великим художником. Старик бросил проницательный взгляд на юношу, постучался три раза и сказал болезненному человеку лет сорока на вид, открывшему дверь:
Добрый день, мэтр.
Порбус учтиво поклонился; он впустил юношу, полагая, что тот пришел со стариком, и уже не обращал на него никакого внимания, тем более что новичок замер в восхищении, подобно всем прирожденным художникам, впервые попавшим в мастерскую, где они могут подсмотреть некоторые приемы искусства. Открытое окно, пробитое в своде, освещало помещение мастера Порбуса. Свет был сосредоточен на мольберте с прикрепленным к нему полотном, где было положено только три-четыре белых мазка, и не достигал углов этой обширной комнаты, в которых царил мрак; но прихотливые отсветы то зажигали в бурой полутьме серебристые блестки на выпуклостях рейтарской кирасы, висевшей на стене, то вырисовывали резкой полосой полированный резной карниз старинного шкафа, уставленного редкостной посудой, то усеивали блестящими точками пупырчатую поверхность каких-то старых занавесей из золотой парчи, подобранных крупными складками, служивших, вероятно, натурой для какой-нибудь картины.
Гипсовые слепки обнаженных мускулов, обломки и торсы античных богинь, любовно отшлифованные поцелуями веков, загромождали полки и консоли. Бесчисленные наброски, этюды, сделанные тремя карандашами, сангиной или пером, покрывали стены до потолка. Ящички с красками, бутылки с маслами и эссенциями, опрокинутые скамейки оставляли только узенький проход, чтобы пробраться к высокому окну; свет из него падал прямо на бледное лицо Порбуса и на голый, цвета слоновой кости, череп странного человека. Внимание юноши было поглощено одной лишь картиной, уже знаменитой даже в те тревожные, смутные времена, так что ее приходили смотреть упрямцы, которым мы обязаны сохранением священного огня в дни безвременья. Эта прекрасная страница искусства изображала Марию Египетскую, намеревающуюся расплатиться за переправу в лодке. Шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею впоследствии продан в дни нужды.
Твоя святая мне нравится, - сказал старик Порбусу, - я заплатил бы тебе десять золотых экю сверх того, что дает королева, но попробуй посоперничай с ней… черт возьми!
Здесь выложена бесплатная электронная книга Неведомый шедевр автора, которого зовут Бальзак Оноре . В библиотеке АКТИВНО БЕЗ ТВ вы можете скачать бесплатно книгу Неведомый шедевр в форматах RTF, TXT, FB2 и EPUB или же читать онлайн книгу Бальзак Оноре - Неведомый шедевр без регистраци и без СМС.
Размер архива с книгой Неведомый шедевр = 25.28 KB
Рассказы –
Оноре де Бальзак
Неведомый шедевр
I. Жиллетта
В конце 1612 года холодным декабрьским утром какой-то юноша, весьма легко одетый, шагал взад и вперед мимо двери дома, расположенного по улице Больших Августинцев, в Париже. Вдоволь так нагулявшись, подобно нерешительному влюбленному, не смеющему предстать перед первой в своей жизни возлюбленной, как бы доступна та ни была, - юноша перешагнул наконец порог двери и спросил, у себя ли мэтр Франсуа Порбус.
Получив утвердительный ответ от старухи, подметавшей сени, юноша стал медленно подыматься, останавливаясь на каждой ступеньке, совсем как новый придворный, озабоченный мыслью, какой прием окажет ему король. Взобравшись наверх по винтовой лестнице, юноша постоял на площадке, все не решаясь коснуться причудливого молотка, украшавшего дверь мастерской, где, вероятно, в тот час работал живописец Генриха IV, забытый Марией Медичи ради Рубенса.
Юноша испытывал то сильное чувство, которое, должно быть, заставляло биться сердца великих художников, когда, полные юного пыла и любви к искусству, они приближались к гениальному человеку или к великому произведению. У человеческих чувств бывает пора первого цветения, порождаемого благородными порывами, постепенно ослабевающими, когда счастье становится лишь воспоминанием, а слава - ложью. Среди недолговечных волнений сердца ничто так не напоминает любовь, как юная страсть художника, вкушающего первые чудесные муки на пути славы и несчастий, - страсть, полная отваги и робости, смутной веры и неизбежных разочарований. У того, кто в годы безденежья и первых творческих замыслов не испытывал трепета при встрече с большим мастером, всегда будет недоставать одной струны в душе, какого-то мазка кисти, какого-то чувства в творчестве, какого-то неуловимого поэтического оттенка. Некоторые самодовольные хвастуны, слишком рано уверовавшие в свою будущность, кажутся людьми умными только глупцам. В этом отношении все говорило в пользу неизвестного юноши, если измерять талант по тем проявлениям первоначальной робости, по той необъяснимой застенчивости, которую люди, созданные для славы, легко утрачивают, вращаясь постоянно в области искусства, как утрачивают робость красивые женщины, упражняясь постоянно в кокетстве. Привычка к успеху заглушает сомнения, а стыдливость и есть, быть может, один из видов сомнения.
Удрученный нуждой и удивляясь в эту минуту собственной своей дерзновенности, бедный новичок так и не решился бы войти к художнику, которому мы обязаны прекрасным портретом Генриха IV, если бы на помощь не явился неожиданный случай. По лестнице поднялся какой-то старик. По странному его костюму, по великолепному кружевному воротнику, по важной, уверенной походке юноша догадался, что это или покровитель, или друг мастера, и, сделав шаг назад, чтобы уступить ему место, он стал его рассматривать с любопытством, в надежде найти в нем доброту художника или любезность, свойственную любителям искусства, - но в лице старика было что-то дьявольское и еще нечто неуловимое, своеобразное, столь привлекательное для художника. Вообразите высокий выпуклый лоб с залысинами, нависающий над маленьким, плоским, вздернутым на конце носом, как у Рабле или Сократа; губы насмешливые и в морщинках; короткий, надменно приподнятый подбородок; седую остроконечную бороду; зеленые, цвета морской воды, глаза, которые как будто выцвели от старости, но, судя по перламутровым переливам белка, были еще иногда способны бросать магнетический взгляд в минуту гнева или восторга. Впрочем, это лицо казалось поблекшим не столько от старости, сколько от тех мыслей, которые изнашивают и душу и тело. Ресницы уже выпали, а на надбровных дугах едва приметны были редкие волоски. Приставьте эту голову к хилому и слабому телу, окаймите ее кружевами, сверкающими белизной и поразительными по ювелирной тонкости работы, накиньте на черный камзол старика тяжелую золотую цепь, и вы получите несовершенное изображение этого человека, которому слабое освещение лестницы придавало фантастический оттенок. Вы сказали бы, что это портрет кисти Рембрандта, покинувший свою раму и молча движущийся в полутьме, столь излюбленной великим художником.
Старик бросил проницательный взгляд на юношу, постучался три раза и сказал болезненному человеку лет сорока на вид, открывшему дверь:
- Добрый день, мэтр.
Порбус учтиво поклонился; он впустил юношу, полагая, что тот пришел со стариком, и уже не обращал на него никакого внимания, тем более что новичок замер в восхищении, подобно всем прирожденным художникам, впервые попавшим в мастерскую, где они могут подсмотреть некоторые приемы искусства. Открытое окно, пробитое в своде, освещало помещение мастера Порбуса. Свет был сосредоточен на мольберте с прикрепленным к нему полотном, где было положено только три-четыре белых мазка, и не достигал углов этой обширной комнаты, в которых царил мрак; но прихотливые отсветы то зажигали в бурой полутьме серебристые блестки на выпуклостях рейтарской кирасы, висевшей на стене, то вырисовывали резкой полосой полированный резной карниз старинного шкафа, уставленного редкостной посудой, то усеивали блестящими точками пупырчатую поверхность каких-то старых занавесей из золотой парчи, подобранных крупными складками, служивших, вероятно, натурой для какой-нибудь картины.
Гипсовые слепки обнаженных мускулов, обломки и торсы античных богинь, любовно отшлифованные поцелуями веков, загромождали полки и консоли.
Бесчисленные наброски, этюды, сделанные тремя карандашами, сангиной или пером, покрывали стены до потолка. Ящички с красками, бутылки с маслами и эссенциями, опрокинутые скамейки оставляли только узенький проход, чтобы пробраться к высокому окну; свет из него падал прямо на бледное лицо Порбуса и на голый, цвета слоновой кости, череп странного человека. Внимание юноши было поглощено одной лишь картиной, уже знаменитой даже в те тревожные, смутные времена, так что ее приходили смотреть упрямцы, которым мы обязаны сохранением священного огня в дни безвременья. Эта прекрасная страница искусства изображала Марию Египетскую, намеревающуюся расплатиться за переправу в лодке. Шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею впоследствии продан в дни нужды.
- Твоя святая мне нравится, - сказал старик Порбусу, - я заплатил бы тебе десять золотых экю сверх того, что дает королева, но попробуй посоперничай с ней… черт возьми!
- Вам нравится эта вещь?
- Хе-хе, нравится ли? - пробурчал старик. - И да и нет. Твоя женщина хорошо сложена, но она неживая. Вам всем, художникам, только бы правильно нарисовать фигуру, чтобы все было на месте по законам анатомии., Вы раскрашиваете линейный рисунок краской телесного тона, заранее составленной на вашей палитре, стараясь при этом делать одну сторону темнее, чем другую, - и потому только, что время от времени вы смотрите на голую женщину, стоящую перед вами на столе, вы полагаете, что воспроизводите природу, вы воображаете, будто вы - художники и будто вы похитили тайну у бога… Бррр!
Для того чтобы быть великим поэтом, недостаточно знать в совершенстве синтаксис и не делать ошибок в языке! Посмотри на свою святую, Порбус! С первого взгляда она кажется прелестной, но, рассматривая ее дольше, замечаешь, что она приросла к полотну и что ее нельзя было бы обойти кругом.
Это только силуэт, имеющий одну лицевую сторону, только вырезанное изображение, подобие женщины, которое не могло бы ни повернуться, ни переменить положение, я не чувствую воздуха между этими руками и фоном картины; недостает пространства и глубины; а между тем законы удаления вполне выдержаны, воздушная перспектива соблюдена точно; но, несмотря на все эти похвальные усилия, я не могу поверить, чтобы это прекрасное тело было оживлено теплым дыханием жизни; мне кажется, если я приложу руку к этой округлой груди, я почувствую, что она холодна, как мрамор! Нет, друг мой, кровь не течет в этом теле цвета слоновой кости, жизнь не разливается пурпурной росой по венам и жилкам, переплетающимся сеткой под янтарной прозрачностью кожи на висках и на груди. Вот это место дышит, ну, а вот другое совсем неподвижно, жизнь и смерть борются в каждой частице картины; здесь чувствуется женщина, там - статуя, а дальше - труп. Твое создание несовершенно. Тебе удалось вдохнуть только часть своей души в свое любимое творение. Факел Прометея угасал не раз в твоих руках, и небесный огонь не коснулся многих мест твоей картины.
- Но отчего же, дорогой учитель? - почтительно сказал Порбус старику, в то время как юноша еле сдерживался, чтобы не наброситься на него с кулаками.
- А вот отчего! - сказал старик. - Ты колебался между двумя системами, между рисунком и краской, между флегматичной мелочностью, жесткой точностью старых немецких мастеров и ослепительной страстностью, благостной щедростью итальянских художников. Ты хотел подражать одновременно Гансу Гольбейну и Тициану, Альбрехту Дюреру и Паоло Веронезе. Конечно, то было великолепное притязание. Но что же получилось? Ты не достиг ни сурового очарования сухости, ни иллюзии светотени. Как расплавленная медь прорывает слишком хрупкую форму, так вот в этом месте богатые и золотистые тона Тициана прорвались сквозь строгий контур Альбрехта Дюрера, в который ты их втиснул.
В других местах рисунок устоял и выдержал великолепное изобилие венецианской палитры. В лице нет ни совершенства рисунка, ни совершенства колорита, и оно носит следы твоей злосчастной нерешительности. Раз ты не чувствовал за собой достаточной силы, чтобы сплавить на огне твоего гения обе соперничающие меж собой манеры письма, то надо было решительно выбрать ту или другую, чтобы достичь хотя бы того единства, которое воспроизводит одну из особенностей живой натуры. Ты правдив только в срединных частях; контуры неверны, они не закругляются, и за ними ничего не ожидаешь. Вот здесь есть правда, - сказал старик, указывая на грудь святой. - И потом еще здесь, - продолжал он, отмечая точку, где на картине кончалось плечо. - Но вот тут, - сказал он, снова возвращаясь к середине груди, - тут все неверно… Оставим какой бы то ни было разбор, а то ты придешь в отчаяние…
Старик сел на скамеечку, оперся головой на руки и замолчал.
- Учитель, - сказал ему Порбус, - все же я много изучал эту грудь на нагом теле, но, на наше несчастье, природа порождает такие впечатления, какие кажутся невероятными на полотне…
- Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но поэт! - живо воскликнул старик, обрывая Порбуса властным жестом. - Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую форму с женщины. Ну, так попробуй, сними гипсовую форму с руки своей возлюбленной и положи ее перед собой, - ты не увидишь ни малейшего сходства, это будет рука трупа, и тебе придется обратиться к ваятелю, который, не давая точной копии, передаст движение и жизнь. Нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и существ. Впечатления!
Впечатления! Да ведь они - только случайности жизни, а не сама жизнь! Рука, раз уж я взял этот пример, рука не только составляет часть человеческого тела - она выражает и продолжает мысль, которую надо схватить и передать. Ни художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатление от причины, так как они нераздельны - одно в другом. Вот в этом и заключается истинная цель борьбы. Многие художники одерживают победу инстинктивно, не зная о такой задаче искусства. Вы рисуете женщину, но вы ее не видите. Не таким путем удается вырвать секрет у природы. Вы воспроизводите, сами того не сознавая, одну и ту же модель, списанную вами у вашего учителя. Вы недостаточно близко познаете форму, вы недостаточно любовно и упорно следуете за нею во всех ее поворотах и отступлениях. Красота строга и своенравна, она не дается так просто, нужно поджидать благоприятный час, выслеживать ее и, схватив, держать крепко, чтобы принудить ее к сдаче.
Форма-это Протей, куда более неуловимый и богатый ухищрениями, чем Протей в мифе! Только после долгой борьбы ее можно приневолить показать себя в настоящем виде. Вы все довольствуетесь первым обликом, в каком она соглашается вам показаться, или, в крайнем случае, вторым, третьим; не так действуют борцы-победители. Эти непреклонные художники не дают себя обмануть всяческими изворотами и упорствуют, пока не принудят природу показать себя совершенно нагой, в своей истинной сути. Так поступал Рафаэль, - сказал старик, сняв при этом с головы черную бархатную шапочку, чтобы выразить свое преклонение перед королем искусства. - Великое превосходство Рафаэля является следствием его способности глубоко чувствовать, которая у него как бы разбивает форму. Форма в его творениях та, какой она должна быть и у нас, только посредник для передачи идей, ощущений, разносторонней поэзии. Всякое изображение есть целый мир, - это портрет, моделью которого было величественное видение, озаренное светом, указанное нам внутренним голосом и предстающее перед нами без покровов, если небесный перст указует нам выразительные средства, источник которых - вся прошлая жизнь. Вы облекаете ваших женщин в нарядную одежду плоти, украшаете их прекрасным плащом кудрей, но где же кровь, текущая по жилам, порождающая спокойствие или страсть и производящая совсем особое зрительное впечатление? Твоя святая - брюнетка, но вот эти краски, бедный мой Порбус, взяты у блондинки! Поэтому-то созданные вами лица - только раскрашенные призраки, которые вы проводите вереницей перед нашими глазами, - и это вы называете живописью и искусством!
Только из-за того, что вы сделали нечто, более напоминающее женщину, чем дом, вы воображаете, что достигли цели, и, гордые тем, что вам нет надобности в надписях при ваших изображениях-currus venustus или pulcher homo, - как у первых живописцев, вы воображаете себя удивительными художниками!.. Ха-ха…
Нет, вы этого еще не достигли, милые мои сотоварищи, придется вам исчертить немало карандашей, извести немало полотен, раньше чем стать художниками.
Совершенно справедливо, женщина держит голову таким образом, она так приподнимает юбку, утомление в ее глазах светится вот такой покорной нежностью, трепещущая тень ее ресниц дрожит именно так на ее щеках. Все это так - и не так! Чего же здесь недостает? Пустяка, но этот пустяк-все. Вы схватываете внешность жизни, но не выражаете ее бьющего через край избытка; не выражаете того, что, быть может, и есть душа и что, подобно облаку, окутывает поверхность тел; иначе сказать, вы не выражаете той цветущей прелести жизни, которая была схвачена Тицианом и Рафаэлем. Исходя из высшей точки ваших достижений и продвигаясь дальше, можно, пожалуй, создать прекрасную живопись, но вы слишком скоро утомляетесь. Заурядные люди приходят в восторг, а истинный знаток улыбается. О Мабузе! воскликнул этот странный человек. - О учитель мой, ты вор, ты унес с собою жизнь!.. При всем том, - продолжал старик, - это полотно лучше, чем полотна наглеца Рубенса с горами фламандского мяса, присыпанного румянами, с потоками рыжих волос и с кричащими красками. По крайней мере у тебя здесь имеются колорит, чувство и рисунок - три существенных части Искусства.
- Но эта святая восхитительна, сударь! - воскликнул громко юноша, пробуждаясь от глубокой задумчивости. - В обоих лицах, в лице святой и в лице лодочника, чувствуется тонкость художественного замысла, неведомая итальянским мастерам. Я не знаю ни одного из них, кто мог бы изобрести такое выражение нерешительности у лодочника.
- Это ваш юнец? - спросил Порбус старика.
- Увы, учитель, простите меня за дерзость, - ответил новичок, краснея.
- Я неизвестен, малюю по влечению и прибыл только недавно в этот город, источник всех знаний.
- За работу! сказал ему Порбус, подавая красный карандаш и бумагу.
Неизвестный юноша скопировал быстрыми штрихами фигуру Марии.
- Ого!.. - воскликнул старик. - Ваше имя? Юноша подписал под рисунком:
«Никола Пуссен», - Недурно для начинающего, - сказал странный, так безумно рассуждавший старик. - Я вижу, при тебе можно говорить о живописи. Я не осуждаю тебя за то, что ты восхитился святой Порбуса. Для всех эта вещь - великое произведение, и только лишь те, кто посвящен в самые сокровенные тайны искусства, знают, в чем ее погрешности. Но так как ты достоин того, чтобы дать тебе урок, и способен понимать, то я сейчас тебе покажу, какой требуется пустяк для завершения этой картины. Смотри во все глаза и напрягай все внимание. Никогда, быть может, тебе не выпадет другой такой случай поучиться. Дай-ка мне свою палитру, Порбус.
Порбус пошел за палитрой и кистями. Старик, порывисто засучив рукава, просунул большой палец в отверстие пестрой палитры, отягченной красками, которую Порбус подал ему; он почти что выхватил из рук его горсть кистей разного размера, и внезапно борода старика, подстриженная клином, грозно зашевелилась, выражая своими движениями беспокойство страстной фантазии.
Забирая кистью краску, он ворчал сквозь зубы:
- Эти тона стоит бросить за окно вместе с их составителем, они отвратительно резки и фальшивы, - как этим писать?
Затем он с лихорадочной быстротой окунул кончики кистей в различные краски, иногда пробегая всю гамму проворнее церковного органиста, пробегающего по клавишам при пасхальном гимне О filii.
Порбус и Пуссен стояли по обеим сторонам полотна, погруженные в глубокое созерцание.
- Видишь ли, юноша, - говорил старик, не оборачиваясь, - видишь ли, как при помощи двух-трех штрихов и одного голубовато-прозрачного мазка можно было добиться, чтобы повеял воздух вокруг головы этой бедняжки святой, которая, должно быть, совсем задыхалась и погибала в столь душной атмосфере.
Посмотри, как эти складки колышутся теперь и как стало понятно, что ими играет ветерок! Прежде казалось, что это накрахмаленное полотно, заколотое булавками. Замечаешь ли, как верно передает бархатистую упругость девичьей кожи вот этот светлый блик, только что мною положенный на грудь, и как эти смешанные тона - красно-коричневый и жженой охры - разлились теплом по этому большому затененному пространству, серому и холодному, где кровь застыла, вместо того чтобы двигаться? Юноша. юноша, никакой учитель тебя не научит тому, что я показываю тебе сейчас! Один лишь Мабузе знал секрет, как придавать жизнь фигурам. Мабузе насчитывал только одного ученика - меня. У меня же их не было совсем, а я стар. Ты достаточно умен, чтобы понять остальное, на что я намекаю.
Говоря так, старый чудак тем временем исправлял разные части картины: сюда наносил два мазка, туда-один, и каждый раз так кстати, что возникала как бы новая живопись, живопись, насыщенная светом. Он работал так страстно, так яростно, что пот выступил на его голом черепе; он действовал так проворно, такими резкими, нетерпеливыми движениями, что молодому Пуссену казалось, будто этим странным человеком овладел демон и против его воли водит его рукой по своей прихоти. Сверхъестественный блеск глаз, судорожные взмахи руки, как бы преодолевающие сопротивление, придавали некоторое правдоподобие этой мысли, столь соблазнительной для юношеской фантазии.
Старик продолжал свою работу, приговаривая:
- Паф! Паф! Паф! Вот как оно мажется, юноша! Сюда, мои мазочки, оживите вот эти ледяные тона. Ну же! Так, так, так! - говорил он, оживляя те части, на которые указывал как на безжизненные, несколькими пятнами красок уничтожая несогласованность в телосложении и восстанавливая единство тона, который соответствовал бы пылкой египтянке. - Видишь ли, милый, только последние мазки имеют значение. Порбус наложил их сотни, я же кладу только один. Никто не станет благодарить за то, что лежит снизу. Запомни это хорошенько!
Наконец демон этот остановился и, повернувшись к онемевшим от восхищения Порбусу и Пуссену, сказал им:
- Этой вещи еще далеко до моей «Прекрасной Нуазезы», однако под таким произведением можно поставить свое имя. Да, я подписался бы под этой картиной, - прибавил он, вставая, чтобы достать зеркало, в которое стал ее рассматривать. - А теперь пойдемте завтракать, - сказал он. - Прошу вас обоих ко мне. Я угощу вас копченой ветчиной и хорошим вином. Хе-хе, несмотря на плохие времена, мы поговорим о живописи. Мы все-таки что-нибудь да значим! Вот молодой человек не без способностей, - добавил он, ударяя по плечу Никола Пуссена.
Тут, обратив внимание на жалкую курточку нормандца, старик достал из-за кушака кожаный кошелек, порылся в нем, вынул два золотых и, протягивая их Пуссену, сказал:
- Я покупаю твой рисунок.
- Возьми, - сказал Порбус Пуссену, видя, что тот вздрогнул и покраснел от стыда, потому что в молодом художнике заговорила гордость бедняка. - Возьми же, его мошна набита туже, чем у короля!
Они вышли втроем из мастерской и, беседуя об искусстве, дошли до стоявшего неподалеку от моста Сен-Мишель красивого деревянного дома, который привел в восторг Пуссена своими украшениями, дверной колотушкой, оконными переплетами и арабесками. Будущий художник оказался вдруг в приемной комнате, около пылающего камина, близ стола, уставленного вкусными блюдами, и, по неслыханному счастью, в обществе двух великих художников, столь милых в обращении.
- Юноша, - сказал Порбус новичку, видя, что тот уставился на одну из картин, - не смотрите слишком пристально на это полотно, иначе вы впадете в отчаянье.
Это был «Адам» - картина, написанная Мабузе затем, чтобы освободиться из тюрьмы, где его так долго держали заимодавцы. Вся фигура Адама полна была действительно такой мощной реальности, что с этой минуты Пуссену стал понятен истинный смысл неясных слов старика. А тот смотрел на картину с видом удовлетворения, но без особого энтузиазма, как бы думая при этом:
«Я получше пишу».
- В ней есть жизнь, - сказал он, - мой бедный учитель здесь превзошел себя, но в глубине картины он не совсем достиг правдивости. Сам человек - вполне живой, он вот-вот встанет и подойдет к нам. Но воздуха, которым мы дышим, неба, которое мы видим, ветра, который мы чувствуем, там нет! Да и человек здесь - только человек. Между тем в этом единственном человеке, только что вышедшем из рук бога, должно было бы чувствоваться нечто божественное, а его-то и недостает. Мабузе сам сознавался в этом с грустью, когда не бывал пьян.
Пуссен смотрел с беспокойным любопытством то на старца, то на Порбуса.
Он подошел к последнему, вероятно намереваясь спросить имя хозяина дома; но художник с таинственным видом приложил палец к устам, и юноша, живо заинтересованный, промолчал, надеясь рано или поздно по каким-нибудь случайно оброненным словам угадать имя хозяина, несомненно человека богатого и блещущего талантами, о чем достаточно свидетельствовали и уважение, проявляемое к нему Порбусом, и те чудесные произведения, какими была заполнена комната.
Увидя на темной дубовой панели великолепный портрет женщины, Пуссен воскликнул:
- Какой прекрасный Джорджоне!
- Нет! - возразил старик. - Перед вами одна из ранних моих вещиц.
- Господи, значит, я в гостях у самого бога живописи! - сказал простодушно Пуссен.
Старец улыбнулся, как человек, давно свыкшийся с подобного рода похвалами.
- Френхофер, учитель мой, - сказал Порбус, - не уступите ли вы мне немного вашего доброго рейнского?
- Две бочки, - ответил старик, - одну в награду за то удовольствие, какое я получил утром от твоей красивой грешницы, а другую - в знак дружбы.
- Ах, если бы не постоянные мои болезни, - продолжал Порбус, - и если бы вы разрешили мне взглянуть на вашу «Прекрасную Нуазезу», я создал бы тогда произведение высокое, большое, проникновенное и фигуры написал бы в человеческий рост.
- Показать мою работу?! - воскликнул в сильном волнении старик. - Нет, нет! Я еще должен завершить ее. Вчера под вечер, - сказал старик, - я думал, что я окончил свою Нуазезу. Ее глаза мне казались влажными, а тело одушевленным. Косы ее извивались. Она дышала! Хотя мною найден способ изображать на плоском полотне выпуклости и округлости натуры, но сегодня утром, при свете, я понял свою ошибку. Ах, чтобы добиться окончательного успеха, я изучил основательно великих мастеров колорита, я разобрал, я рассмотрел слой за слоем картины самого Тициана, короля света. Я так же, как этот величайший художник, наносил первоначальный рисунок лица светлыми и жирными мазками, потому что тень - только случайность, запомни это, мой мальчик, Затем я вернулся, к своему труду и при помощи полутеней и прозрачных тонов, которые я понемногу сгущал, передал тени, вплоть до черных, до самых глубоких; ведь у заурядных художников натура в тех местах, где на нее падает тень, как бы состоит из другого вещества, чем в местах освещенных, - это дерево, бронза, все что угодно, только не затененное тело.
Чувствуется, что, если бы фигуры изменили свое положение, затененные места не выступили бы, не осветились бы. Я избег этой ошибки, в которую впадали многие из знаменитых художников, и у меня под самой густой тенью чувствуется настоящая белизна. Я не вырисовывал фигуру резкими контурами, как многие невежественные художники, воображающие, что они пишут правильно только потому, что выписывают гладко и тщательно каждую линию, и я не выставлял мельчайших анатомических подробностей, потому что человеческое тело не заканчивается линиями.
12. Эстетические воззрения Бальзака в новелле « Неведомый шедевр».
Оноре Бальзак - сын нотариуса, разбогатевшего во время наполеоновских войн. Его романы стали как бы эталоном реализма первой половины 19 века. Писатель буржуазии, хозяина новой жизни. Он потому и отвернулся от утверждения В. Гюго, что "действительность в искусстве не есть действительность в жизни", и видел задачу своего великого произведения в показе не «воображаемых фактов», а в показе того, что «происходит всюду». "Повсюду" сейчас - торжество капитализма, самоутверждение буржуазного общества. Показ утвердившегося буржуазного общества - такова основная задача, поставленная историей перед лит-рой - и Б. ее разрешает в своих романах.
В « Письмах о литературе, театре и искусстве» Бальзак утверждает, что писатель даёт не частные наблюдения, но, обобщая единичное и осмысливая его суть, создаёт типы, основные черты каждого из которых читатель может обнаружить в окружающем его мире. Субъективность романтика уступает место аналитизму и научному подходу к творческому процессу реалиста. В Германии Гегель в своих « Лекциях по эстетике» отмечал типизацию. Как новое в искусстве, ибо поэт должен не «творить в беспамятстве» как это делали романтики, но отбирая из жизни самое характерное и осмысливая его. Бальзак явно не слушавших лекций Гегеля, шел по тому же пути, ибо само развитие искусства диктовало новый подход.
В статье 1840 года « Этюд о Бейле» Бальзак назвал свой метод «литературным эклектицизмом», видя в нём соединение у «двусторонних умов» лиризма, драматизма и одической возвышенности. « Идея, ставшая образом, - это искусство более высокое», - писал он там же, утверждая необходимость соединения рационализма Просвещения с вдохновением романтизма, стремившегося показать жизнь души человека. Вместе с тем, Б утверждал, что роман должен быть «лучшим миром».
Бальзаковские принципы изображения действительности воплотились и в рассказе « Неведомы шедевр», вошедший в цикл философских этюдов «Человеческой комедии». « Неведомый шедевр» посвящён соотношению правды жизни и правды искусства. Особенно важны позиции художников Порбуса (фламандский художник, 1570-1620, работавший в Париже) и Френхофера - личности, вымышленной автором. Столкновение их позиций раскрывает отношение Бальзака к творчеству. Френхофер утверждает: « Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы её выражать…. Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую копию с женщины…Нам должно схватывать душу, смысл, движение и жизнь». Сам Френхофер задаётся невыполнимой и противоречащей подлинному искусству целью: он хочет на полотне с помощью красок создать живую женщину. Ему даже кажется, что она ему улыбается, что она - его Прекрасная Нуазеза - дышит, весь её облик, физический и духовный превосходит облик реального человека. Однако это идеальное и идеально выполненное существо видит только сам Френхофер, а его ученики, в том числе и Порбус, в углу картины разглядели «кончик голой ноги, выделяющийся из хаоса красок, тонов, неопределённых оттенков, образующих некую бесформенную туманность». Увлечённость, с одной стороны, формой, а с другой - содержанием, желанием поставить искусство выше действительности и подменить им реальность привела гениального художника к катастрофе. Сам Бальзак, не принимая ни субъективности, ни копирования, убеждён, что оно должно выражать природу, схватывать её душу и смысл.
Таким образом, рассказ « Неведомый Шедевр» - не только манифест реалиста, но и горькая ирония, рождённая мыслью о том, что сам великий мастер может оказаться в плену собственных иллюзий, собственной субъективности.