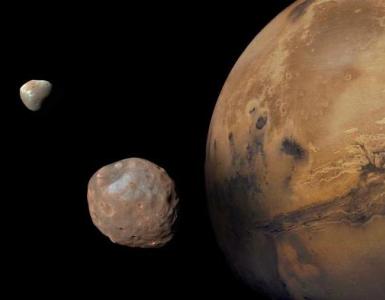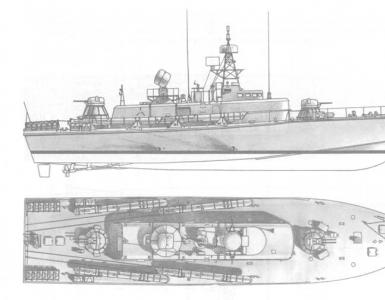Проблематика «записок из мертвого дома» ф.м. достоевского, худоственное своеобразие произведения - курсовая работа
Александра Горянчикова осудили на 10 лет каторжных работ за убийство супруги. «Мёртвый дом», как он называл тюрьму, вмещал около 250 заключённых. Тут был свой особый порядок. Некоторые пытались своим ремеслом заработать, но начальство отбирало после обысков все инструменты. Многие просили милостыню. На вырученные деньги можно было купить табак или вино, чтобы хоть как-то скрасить существование.
Герой часто думал о том, что кого-то ссылали за хладнокровное и жестокое убийство, и такой же срок давали человеку, убившего человека, пытаясь защитить свою дочь.
В первый же месяц Александру довелось увидеть совершенно разных людей. Были тут и контрабандисты, и грабители, и доносчики, и старообрядцы. Многие хвастались совершёнными преступлениями, желая славы бесстрашных преступников. Горянчиков сразу решил, что не пойдёт против своей совести, как многие, пытаясь облегчить себе жизнь. Александр был 1 из 4 дворян, попавших сюда. Несмотря на презрительное к себе отношение, он не хотел пресмыкаться или жаловаться, и хотел доказать, что способен работать.
За казармами он нашёл собаку и часто приходил покормить своего нового друга Шарика. Вскоре пошли знакомства с другими заключёнными, правда, особо жестоких убийц он старался избегать.
Перед Рождеством арестантов повели в баню, чему все очень радовались. В праздник горожане приносили подарки арестантам, а священник освящал все камеры.
Заболев и попав в госпиталь, Горянчиков своими глазами увидел, к чему приводят телесные наказания, практикуемые в тюрьме.
Летом арестанты взбунтовались из-за тюремной еды. После этого питание стало чуть лучше, но ненадолго.
Прошло несколько лет. Со многим герой уже смирился и был твёрдо убеждён не совершать больше прошлых ошибок. С каждым днём он становился смиреннее и терпеливее. В последний день Горянчикова отвели к кузнецу, который снял с него ненавистные кандалы. Впереди ждала свобода и счастливая жизнь.
Картинка или рисунок Записки из Мёртвого дома
Другие пересказы и отзывы для читательского дневника
- Краткое содержание Мольер Мещанин во дворянстве
Главный герой произведения – господин Журден. Его самая заветная мечта – стать дворянином. Для того, чтобы стать хоть немного похожим на представителя дворянского сословия, Журден нанимает для себя преподавателей.
- Краткое содержание Пришвин Москва-река
Москва-река – это удивительное произведение одного из лучших русских писателей прошлого – Михаила Пришвина.
- Краткое содержание балета Лебединое озеро (сюжет)
Балет начинается с того, что Зигфрид вместе со своими друзьями празднует своё совершеннолетие вместе с очаровательными девушками. В самый разгар веселья появляется мать юбиляра и напоминает парню, что его холостая жизнь сегодня заканчивается
- Краткое содержание Шварц Сказка о потерянном времени
Сказка о потерянном времени Евгения Шварца повествует о том, как драгоценно время, и как легко мы тратим его в пустоту. Главный герой третьеклассник Петя Зубов
- Краткое содержание Живые и мертвые Симонов
1941 год. Начало Великой Отечественной войны. Страшное время для России. Паника охватывает жителей страны, армия не готова к внезапному нападению фашистских захватчиков. Глазами Ивана Петровича Синцова
В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых лесов, попадаются изредка маленькие города, с одной, много с двумя тысячами жителей, деревянные, невзрачные, с двумя церквами - одной в городе, другой на кладбище, - города, похожие более на хорошее подмосковное село, чем на город. Они обыкновенно весьма достаточно снабжены исправниками, заседателями и всем остальным субалтерным чином. Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные. Чиновники, по справедливости играющие роль сибирского дворянства, - или туземцы, закоренелые сибиряки, или наезжие из России, большею частью из столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет окладом жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеждами в будущем. Из них умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются. Впоследствии они приносят богатые и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешать загадку жизни, скоро наскучают Сибирью и с тоской себя спрашивают: зачем они в нее заехали? С нетерпением отбывают они свой законный термин службы, три года, и по истечении его тотчас же хлопочут о своем переводе и возвращаются восвояси, браня Сибирь и подсмеиваясь над нею. Они неправы: не только с служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натыкается на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сампятнадцать… Вообще земля благословенная. Надо только уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться.
В одном из таких веселых и довольных собою городков, с самым милейшим населением, воспоминание о котором останется неизгладимым в моем сердце, встретил я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, родившегося в России дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльно-каторжным второго разряда за убийство жены своей и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К. поселенцем. Он, собственно, приписан был к одной подгородной волости, но жил в городе, имея возможность добывать в нем хоть какое-нибудь пропитание обучением детей. В сибирских городах часто встречаются учителя из ссыльных поселенцев; ими не брезгают. Учат же они преимущественно французскому языку, столь необходимому на поприще жизни и о котором без них в отдаленных краях Сибири не имели бы и понятия. В первый раз я встретил Александра Петровича в доме одного старинного, заслуженного и хлебосольного чиновника, Ивана Иваныча Гвоздикова, у которого было пять дочерей, разных лет, подававших прекрасные надежды. Александр Петрович давал им уроки четыре раза в неделю, по тридцати копеек серебром за урок. Наружность его меня заинтересовала. Это был чрезвычайно бледный и худой человек, еще нестарый, лет тридцати пяти, маленький и тщедушный. Одет был всегда весьма чисто, по-европейски. Если вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас чрезвычайно пристально и внимательно, с строгой вежливостью выслушивая каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово своего ответа, что вам вдруг становилось отчего-то неловко и вы, наконец, сами радовались окончанию разговора. Я тогда же расспросил о нем Ивана Иваныча и узнал, что Горянчиков живет безукоризненно и нравственно и что иначе Иван Иваныч не пригласил бы его для дочерей своих; но что он страшный нелюдим, ото всех прячется, чрезвычайно учен, много читает, но говорит весьма мало и что вообще с ним довольно трудно разговориться. Иные утверждали, что он положительно сумасшедший, хотя и находили, что, в сущности, это еще не такой важный недостаток, что многие из почетных членов города готовы всячески обласкать Александра Петровича, что он мог бы даже быть полезным, писать просьбы и проч. Полагали, что у него должна быть порядочная родня в России, может быть даже и не последние люди, но знали, что он с самой ссылки упорно пресек с ними всякие сношения, - одним словом, вредит себе. К тому же у нас все знали его историю, знали, что он убил жену свою еще в первый год своего супружества, убил из ревности и сам донес на себя (что весьма облегчило его наказание). На такие же преступления всегда смотрят как на несчастия и сожалеют о них. Но, несмотря на все это, чудак упорно сторонился от всех и являлся в людях только давать уроки.
Я сначала не обращал на него особенного внимания, но, сам не знаю почему, он мало-помалу начал интересовать меня. В нем было что-то загадочное. Разговориться не было с ним ни малейшей возможности. Конечно, на вопросы мои он всегда отвечал и даже с таким видом, как будто считал это своею первейшею обязанностью; но после его ответов я как-то тяготился его дольше расспрашивать; да и на лице его, после таких разговоров, всегда виднелось какое-то страдание и утомление. Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от Ивана Ивановича. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону. Я даже удивился. С тех пор, встречаясь со мной, он смотрел на меня как будто с каким-то испугом. Но я не унялся; меня что-то тянуло к нему, и месяц спустя я ни с того ни с сего сам зашел к Горянчикову. Разумеется, я поступил глупо и неделикатно. Он квартировал на самом краю города, у старухи мещанки, у которой была больная в чахотке дочь, а у той незаконнорожденная дочь, ребенок лет десяти, хорошенькая и веселенькая девочка. Александр Петрович сидел с ней и учил ее читать в ту минуту, как я вошел к нему. Увидя меня, он до того смешался, как будто я поймал его на каком-нибудь преступлении. Он растерялся совершенно, вскочил со стула и глядел на меня во все глаза. Мы наконец уселись; он пристально следил за каждым моим взглядом, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. Я догадался, что он был мнителен до сумасшествия. Он с ненавистью глядел на меня, чуть не спрашивая: «Да скоро ли ты уйдешь отсюда?» Я заговорил с ним о нашем городке, о текущих новостях; он отмалчивался и злобно улыбался; оказалось, что он не только не знал самых обыкновенных, всем известных городских новостей, но даже не интересовался знать их. Заговорил я потом о нашем крае, о его потребностях; он слушал меня молча и до того странно смотрел мне в глаза, что мне стало наконец совестно за наш разговор. Впрочем, я чуть не раздразнил его новыми книгами и журналами; они были у меня в руках, только что с почты, я предлагал их ему еще неразрезанные. Он бросил на них жадный взгляд, но тотчас же переменил намерение и отклонил предложение, отзываясь недосугом. Наконец я простился с ним и, выйдя от него, почувствовал, что с сердца моего спала какая-то несносная тяжесть. Мне было стыдно и показалось чрезвычайно глупым приставать к человеку, который именно поставляет своею главнейшею задачею - как можно подальше спрятаться от всего света. Но дело было сделано. Помню, что книг я у него почти совсем не заметил, и, стало быть, несправедливо говорили о нем, что он много читает. Однако же, проезжая раза два, очень поздно ночью, мимо его окон, я заметил в них свет. Что же делал он, просиживая до зари? Не писал ли он? А если так, что же именно?
Обстоятельства удалили меня из нашего городка месяца на три. Возвратясь домой уже зимою, я узнал, что Александр Петрович умер осенью, умер в уединении и даже ни разу не позвал к себе лекаря. В городке о нем уже почти позабыли. Квартира его стояла пустая. Я немедленно познакомился с хозяйкой покойника, намереваясь выведать у нее; чем особенно занимался ее жилец и не писал ли он чего-нибудь? За двугривенный она принесла мне целое лукошко бумаг, оставшихся после покойника. Старуха призналась, что две тетрадки она уже истратила. Это была угрюмая и молчаливая баба, от которой трудно было допытаться чего-нибудь путного. О жильце своем она не могла сказать мне ничего особенного нового. По ее словам, он почти никогда ничего не делал и по месяцам не раскрывал книги и не брал пера в руки; зато целые ночи прохаживал взад и вперед по комнате и все что-то думал, а иногда и говорил сам с собою; что он очень полюбил и очень ласкал ее внучку, Катю, особенно с тех пор, как узнал, что ее зовут Катей, и что в Катеринин день каждый раз ходил по ком-то служить панихиду. Гостей не мог терпеть; со двора выходил только учить детей; косился даже на нее, старуху, когда она, раз в неделю, приходила хоть немножко прибрать в его комнате, и почти никогда не сказал с нею ни единого слова в целых три года. Я спросил Катю: помнит ли она своего учителя? Она посмотрела на меня молча, отвернулась к стенке и заплакала. Стало быть, мог же этот человек хоть кого-нибудь заставить любить себя.
Повествование ведётся от лица главного героя, Александра Петровича Горянчикова, дворянина, оказавшегося на каторге сроком на 10 лет за убийство жены. Убив жену из ревности, Александр Петрович сам признался в убийстве, а отбыв каторгу, оборвал все связи с родственниками и остался на поселении в сибирском городе К., ведя замкнутый образ жизни и зарабатывая на жизнь репетиторством. Одним из немногих его развлечений остаётся чтение и литературные зарисовки о каторге. Собственно «заживо Мёртвым домом», давшим название повести, автор называет острог, где каторжане отбывают заключение, а свои записи - «Сцены из мёртвого дома».
Оказавшись в остроге, дворянин Горянчиков остро переживает своё заключение, которое отягощается непривычной крестьянской средой. Большинство арестантов не принимают его за равного, одновременно и презирая его за непрактичность, брезгливость, и уважая его дворянство. Пережив первый шок, Горянчиков с интересом принимается изучать быт обитателей острога, открывая для себя «простой народ», его низкие и возвышенные стороны.
Горянчиков попадает в так называемый «второй разряд», в крепость. Всего в Сибирской каторге в XIX веке существовало три разряда: первый (в рудниках), второй (в крепостях) и третий (заводской). Считалось, что тяжесть каторги уменьшается от первого к третьему разряду (см. Каторга). Однако, по свидетельству Горянчикова, второй разряд был самым строгим, так как был под военным управлением, а арестанты всегда находились под наблюдением. Многие из каторжан второго разряда говорили в пользу первого и третьего разрядов. Помимо этих разрядов, наряду с обычными арестантами, в крепости, куда был заключён Горянчиков, содержалось «особое отделение», в которое определялись арестанты на каторжные бессрочные работы за особенно тяжёлые преступления. «Особое отделение» в своде законов описывалось следующим образом «Учреждается при таком-то остроге особое отделение, для самых важных преступников, впредь до открытия в Сибири самых тяжких каторжных работ».
Повесть не имеет целостного сюжета и предстаёт перед читателями в виде небольших зарисовок, впрочем, выстроенных в хронологическом порядке. В главах повести встречаются личные впечатления автора, истории из жизни других каторжан, психологические зарисовки и глубокие философские размышления.
Подробно описываются быт и нравы заключённых, отношения каторжан друг к другу, вере и преступлениям. Из повести можно узнать, на какие работы привлекались каторжане, как зарабатывали деньги, как проносили в острог вино, о чём мечтали, как развлекались, как относились к начальству и работе. Что было запрещено, что разрешено, на что начальство смотрело сквозь пальцы, как происходило наказание каторжан. Рассматривается национальный состав каторжан, их отношения к заключению, к заключённым других национальностей и сословий.
«Записки из Мертвого дома» - произведение необычного жанра, с которым Ф.М.Достоевский вновь вошел в русскую литературу, вернул ему известность и признание. Это было открытием новой темы - русская каторга. «Записки из Мертвого дома» задали канон русской лагерной прозе своей безыскусственностью и простотой изображения земного ада, который хватает вас за горло и не отпускает до конца.
Если поискать предшественников, то, скорее всего, это «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», там есть описание тюремных страстей которые испытал мятежный Аввакум, но первое всеобъемлющее описание «каторжных нор» - это, конечно, «Записки из Мертвого дома».
После открытия Достоевского началась целая серия «каторжных» произведений. Среди документальных книг можно назвать «Сибирь и каторгу» С.В. Максимова, «Остров Сахалин» А. П. Чехова, к ним примыкает «Сибирь и ссылка» американского путешественника и публициста Джона Кеннана. В XX веке усовершенствованная советская каторга получила освещение в новых художественных открытиях Александра Солженицына, Варлама Шаламова... Есть очень важные переклички между ними. Остановлюсь только на одной. Чехов по поводу каторжного острова Сахалина писал, что «мы обязаны ездить туда на поклонение, как турки ездят в Мекку. Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски».
Это перекликается с тем, что писал Достоевский за полвека до этого: «И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром!». Очень часто сравнивали «Записки из Мертвого дома» с изображением ада в «Божественной комедии» Данте: вот такой новый, земной ад.
Фигура повествователя
Давайте посмотрим, как написано это произведение. Речь о каторге повествует не сам Достоевский. Это не документальная проза, это все-таки художественная проза. Писатель придумывает рассказчика, повествователя: некто Александр Петрович Горянчиков, который отбыл 10 лет каторги за убийство жены, вероятно, как мы догадываемся из ревности, и теперь в конце жизни пишущий вот эти записки. Фигура Горянчикова получилась достаточно условная, не совсем развернутая биографически. Возможно, она в этом своем сюжете преступления развернется и получит продолжение у Л.Н.Толстого в «Крейцеровой сонате».
Мы, конечно, понимаем, что за Александром Петровичем спрятался сам Федор Михайлович, может быть потому, что он не мог писать о себе, поскольку был политическим преступником, и, конечно, цензура бы не пропустила, а это произведение от лица уголовного преступника написано. Перед нами разворачивается картина каторги в самых разных ее проявлениях, и эти картины как бы нанизываются друг на друга, как звенья кандалов, в которых Достоевский провел эти четыре года. Но у этих картин есть очень важные подоплеки: психологические, нравственные и даже философские.
Фигура Горянчикова - изобретение Достоевского не только вынужденное, но имеющее определенный художественный смысл. И когда мы в XX веке читаем «Один день Ивана Денисовича», мы понимаем, что Солженицын вернулся к такому же приему- увидеть каторгу глазами выжившего на ней каторжника.
«Перерождение убеждений»
Но повторяю, за этой книгой стоит Достоевский и его, как он выражался, «перерождение убеждений». Что с ним случилось на каторге? Что ему открыла каторга как писателю, как человеку? Ведь на каторгу пришел участник социалистического кружка М.Б. Петрашевского, испытавший на себе влияние В.Г. Белинского, о котором позднее вспоминал: «В новые нравственные основы социализма он верил до безумия и без всякой рефлексии; тут был один лишь восторг… Но ему надо было низложить религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально». Обращаю внимание на эту последнюю фразу: «Семейство, собственность и нравственную ответственность личности он отрицал радикально».
В 1840-е годы, когда распространялись эти новые идеи, широкую известность приобрела одна фраза, принадлежавшая французу П.-Ж. Прудону. В 1840 году он выпустил книгу «Что такое собственность?» и на этот вопрос ответил краткой фразой, которая стала крылатой: «Собственность - это кража». Характерно, что сам Прудон не отвергал совсем уж частную собственность и даже полагал ее условием свободы, но бойкие фразы имеют такую особенность: они перерастают своих авторов.
Итак, отрицание ответственности личности и отрицание собственности. Достоевский попал на каторгу, и, по существу, оказался в той же самой фаланстере, которая рисовалась воображению Белинского и его последователей. Понятно, что не каторга рисовалась, понятно, что они мечтали о каком-то новом граде, где все будут равны, все будут одинаково трудиться и не будет собственности. Современные исследователи, в частности, Валентин Александрович Недзвецкий «Записки из Мертвого дома» называет «первой антиутопией», и только за ней последовали другие: последовала «История одного города» Щедрина - финальный город Непреклонск, казарменный город Угрюм-Бурчеева - ну, а в XX веке и Замятин, и Оруэлл, и другие.
То есть получается, что Достоевский на каторге оказался в сообществе, где нет собственности, где все равны в своей несвободе и всецело подчиняются диктату благодетельной верховной власти (плац-майор в чем-то даже круче Угрюм-Бурчеева). И Достоевский, наконец, приходит к очень важной мысли, которая отвергает постулат Прудона. Вот что он здесь пишет: «Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге вследствие естественной потребности и какого‑то чувства самосохранения имел «свое мастерство и занятие», чтобы ту самую хоть какую-то собственность иметь. И дальше Достоевский выдает замечательный афоризм. Он говорит о том, что без денег на каторге выжить было невозможно: «Деньги есть чеканенная свобода». «Деньги есть чеканенная свобода, а потому для человека, совершенно лишенного свободы, они дороже вдесятеро». Вот какие новые соображения приходят ему в голову.
Ну и вот общий труд: труд фаланстеры и труд каторги, там и здесь обязательный - труд, который лишается своего смысла, когда нет собственности. Вот что Достоевский-Горянчиков пишет о каторжном труде: «Самая работа, например, показалась мне совсем не так тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее, сколько в том, что она - принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам, особенно летом; но он работает на себя, работает с разумною целью, и ему несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него бесполезной работе. Мне раз пришла мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием.., то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна и скучна, то она разумна: арестант делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее, спорее, лучше».
Здесь неизбежна параллель с «Одним днем Ивана Денисовича». Большую часть этого рассказа занимает изображение труда и увлеченность трудом мастеровитых каторжников, которые сами себе поставили цель, и работа приобрела хоть какой-то смысл, перестала быть обязаловкой, грозившей ведь и всему социалистическому мироустройству. Вот такие открытия делает Достоевский (а за ним и Солженицын), они то и повели его к тому, что он называет «перерождение убеждений».
Внутри народной жизни
Другая нестерпимая каторжная мука, о которой пишет Достоевский - это вынужденное общее сожительство, еще один вид несвободы. Это вынужденное сожительство усложнялось еще тем, что все таки Достоевский был дворянин, и на одних с ним нарах оказались простые мужики, народ, который враждебно относился к «барам», чужакам. И Достоевский здесь открыл для себя страшную бездну, разверзшуюся между народом и образованным классом. Он пишет по этому поводу: «Как ни будь он [дворянин] справедлив, добр, умен, его целые годы будут ненавидеть, презирать все, целой массой; его не поймут, а главное - не поверят ему… Не свой человек, да и только». «Они [то есть дворяне] разделены с простонародьем, - продолжает Достоевский, - глубочайшею бездной».
Достоевский даже такую метафору сочиняет: он говорит об отличительном запахе , что мужик по запаху может определить своего и чужого ему человека. Отчуждение это имело глубокие исторические корни: после переворота Петра I Россия окончательно раскололась на две неравных половинки - образованное сословие и народ. Потом, накануне катастрофы, Блок с болью будет говорить о разъединении интеллигенции и народа. Пропасть между ними все более и более разрасталась, и Достоевский это ощутил на собственной шкуре. Русская классическая литература XIX века одной из своих главных целей поставила соединить эти, как бы разошедшиеся половинки другой планеты, путем познания, изучения народной массы.
У Пушкина, Лермонтова, мы обнаруживаем еще пока не утраченную способность перевоплощения в народное сознание. Достоевский особенно ценил такие произведения, как стихотворение Пушкина «Сват Иван, как пить мы станем» (юморное словцо от человека из народа), «Песня про купца Калашникова» Лермонтова. И что очень важно заметить, Пушкин начал также расследование феномена пугачевщины, пророчески угадав грядущую национальную катастрофу.
Начиная с Гоголя русская литература заняла позицию внимательного и сочувственного наблюдателя народной жизни. Это есть в «Мертвых душах», по этому пути пошел Тургенев (напомню о его «Записках охотника», «Муму»), Григорович («Деревня», «Антон-Горемыка»), Писемский («Плотничья артель»), Лев Толстой («Утро помещика», «Кавказские рассказы», «Севастопольские рассказы»), Салтыков-Щедрин (народные главы в «Губернских очерках»).
Это всё наблюдатели, а перевоплощение на манер пушкинско-лермонтовского нашло, пожалуй, продолжение в поэзии Некрасова, где зазвучали народные голоса, хотя и как наблюдатель, народоописатель Некрасов восхищал Достоевского, например, в стихотворении «Влас» «величавым образом» мужика. Можно вспомнить Лескова, который вот эту стихию народной жизни, ее смех и горе и в то же время ее праведничество, пытался передать в своих сказовых стилизациях. Можно сказать, что вообще вся русская литература XIX века была своеобразным хождением в народ. Русские писатели открывали свой собственный народ, как Колумб Америку. И совершенно особую роль в этом движении русской литературы сыграла книга Достоевского «Записки из Мертвого дома», потому что здесь не просто наблюдатель, здесь человек, который оказался в гуще народной среды и испытал на себе ее законы.
Одно дело - со стороны наблюдать народную жизнь, а другое - оказаться внутри нее. Этот переход границы произвел потрясающее впечатление на Достоевского. Я в прошлый раз уже говорил о кризисе, о котором он написал Наталье Дмитриевне Фонвизиной. Столкнувшись с народом - Достоевский прошел через кризис отчуждения.
Обратимся к письму, которое он пишет буквально через неделю после выхода с каторги. Это письмо к брату в начале 1854 года - своеобразный конспект будущей книги, которая только через пять лет напишется. Вот что он здесь говорит: «Это народ...
Федор Михайлович Достоевский
Записки из мертвого дома
Часть первая
Введение
В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых лесов, попадаются изредка маленькие города, с одной, много с двумя тысячами жителей, деревянные, невзрачные, с двумя церквами – одной в городе, другой на кладбище, – города, похожие более на хорошее подмосковное село, чем на город. Они обыкновенно весьма достаточно снабжены исправниками, заседателями и всем остальным субалтерным чином. Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные. Чиновники, по справедливости играющие роль сибирского дворянства, – или туземцы, закоренелые сибиряки, или наезжие из России, большею частью из столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет окладом жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеждами в будущем. Из них умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются. Впоследствии они приносят богатые и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешать загадку жизни, скоро наскучают Сибирью и с тоской себя спрашивают: зачем они в нее заехали? С нетерпением отбывают они свой законный термин службы, три года, и по истечении его тотчас же хлопочут о своем переводе и возвращаются восвояси, браня Сибирь и подсмеиваясь над нею. Они неправы: не только с служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натыкается на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сампятнадцать… Вообще земля благословенная. Надо только уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться.
В одном из таких веселых и довольных собою городков, с самым милейшим населением, воспоминание о котором останется неизгладимым в моем сердце, встретил я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, родившегося в России дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльно-каторжным второго разряда за убийство жены своей и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К. поселенцем. Он, собственно, приписан был к одной подгородной волости, но жил в городе, имея возможность добывать в нем хоть какое-нибудь пропитание обучением детей. В сибирских городах часто встречаются учителя из ссыльных поселенцев; ими не брезгают. Учат же они преимущественно французскому языку, столь необходимому на поприще жизни и о котором без них в отдаленных краях Сибири не имели бы и понятия. В первый раз я встретил Александра Петровича в доме одного старинного, заслуженного и хлебосольного чиновника, Ивана Иваныча Гвоздикова, у которого было пять дочерей, разных лет, подававших прекрасные надежды. Александр Петрович давал им уроки четыре раза в неделю, по тридцати копеек серебром за урок. Наружность его меня заинтересовала. Это был чрезвычайно бледный и худой человек, еще нестарый, лет тридцати пяти, маленький и тщедушный. Одет был всегда весьма чисто, по-европейски. Если вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас чрезвычайно пристально и внимательно, с строгой вежливостью выслушивая каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово своего ответа, что вам вдруг становилось отчего-то неловко и вы, наконец, сами радовались окончанию разговора. Я тогда же расспросил о нем Ивана Иваныча и узнал, что Горянчиков живет безукоризненно и нравственно и что иначе Иван Иваныч не пригласил бы его для дочерей своих; но что он страшный нелюдим, ото всех прячется, чрезвычайно учен, много читает, но говорит весьма мало и что вообще с ним довольно трудно разговориться. Иные утверждали, что он положительно сумасшедший, хотя и находили, что, в сущности, это еще не такой важный недостаток, что многие из почетных членов города готовы всячески обласкать Александра Петровича, что он мог бы даже быть полезным, писать просьбы и проч. Полагали, что у него должна быть порядочная родня в России, может быть даже и не последние люди, но знали, что он с самой ссылки упорно пресек с ними всякие сношения, – одним словом, вредит себе. К тому же у нас все знали его историю, знали, что он убил жену свою еще в первый год своего супружества, убил из ревности и сам донес на себя (что весьма облегчило его наказание). На такие же преступления всегда смотрят как на несчастия и сожалеют о них. Но, несмотря на все это, чудак упорно сторонился от всех и являлся в людях только давать уроки.
Я сначала не обращал на него особенного внимания, но, сам не знаю почему, он мало-помалу начал интересовать меня. В нем было что-то загадочное. Разговориться не было с ним ни малейшей возможности. Конечно, на вопросы мои он всегда отвечал и даже с таким видом, как будто считал это своею первейшею обязанностью; но после его ответов я как-то тяготился его дольше расспрашивать; да и на лице его, после таких разговоров, всегда виднелось какое-то страдание и утомление. Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от Ивана Ивановича. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону. Я даже удивился. С тех пор, встречаясь со мной, он смотрел на меня как будто с каким-то испугом. Но я не унялся; меня что-то тянуло к нему, и месяц спустя я ни с того ни с сего сам зашел к Горянчикову. Разумеется, я поступил глупо и неделикатно. Он квартировал на самом краю города, у старухи мещанки, у которой была больная в чахотке дочь, а у той незаконнорожденная дочь, ребенок лет десяти, хорошенькая и веселенькая девочка. Александр Петрович сидел с ней и учил ее читать в ту минуту, как я вошел к нему. Увидя меня, он до того смешался, как будто я поймал его на каком-нибудь преступлении. Он растерялся совершенно, вскочил со стула и глядел на меня во все глаза. Мы наконец уселись; он пристально следил за каждым моим взглядом, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. Я догадался, что он был мнителен до сумасшествия. Он с ненавистью глядел на меня, чуть не спрашивая: «Да скоро ли ты уйдешь отсюда?» Я заговорил с ним о нашем городке, о текущих новостях; он отмалчивался и злобно улыбался; оказалось, что он не только не знал самых обыкновенных, всем известных городских новостей, но даже не интересовался знать их. Заговорил я потом о нашем крае, о его потребностях; он слушал меня молча и до того странно смотрел мне в глаза, что мне стало наконец совестно за наш разговор. Впрочем, я чуть не раздразнил его новыми книгами и журналами; они были у меня в руках, только что с почты, я предлагал их ему еще неразрезанные. Он бросил на них жадный взгляд, но тотчас же переменил намерение и отклонил предложение, отзываясь недосугом. Наконец я простился с ним и, выйдя от него, почувствовал, что с сердца моего спала какая-то несносная тяжесть. Мне было стыдно и показалось чрезвычайно глупым приставать к человеку, который именно поставляет своею главнейшею задачею – как можно подальше спрятаться от всего света. Но дело было сделано. Помню, что книг я у него почти совсем не заметил, и, стало быть, несправедливо говорили о нем, что он много читает. Однако же, проезжая раза два, очень поздно ночью, мимо его окон, я заметил в них свет. Что же делал он, просиживая до зари? Не писал ли он? А если так, что же именно?
Обстоятельства удалили меня из нашего городка месяца на три. Возвратясь домой уже зимою, я узнал, что Александр Петрович умер осенью, умер в уединении и даже ни разу не позвал к себе лекаря. В городке о нем уже почти позабыли. Квартира его стояла пустая. Я немедленно познакомился с хозяйкой покойника, намереваясь выведать у нее; чем особенно занимался ее жилец и не писал ли он чего-нибудь? За двугривенный она принесла мне целое лукошко бумаг, оставшихся после покойника. Старуха призналась, что две тетрадки она уже истратила. Это была угрюмая и молчаливая баба, от которой трудно было допытаться чего-нибудь путного. О жильце своем она не могла сказать мне ничего особенного нового. По ее словам, он почти никогда ничего не делал и по месяцам не раскрывал книги и не брал пера в руки; зато целые ночи прохаживал взад и вперед по комнате и все что-то думал, а иногда и говорил сам с собою; что он очень полюбил и очень ласкал ее внучку, Катю, особенно с тех пор, как узнал, что ее зовут Катей, и что в Катеринин день каждый раз ходил по ком-то служить панихиду. Гостей не мог терпеть; со двора выходил только учить детей; косился даже на нее, старуху, когда она, раз в неделю, приходила хоть немножко прибрать в его комнате, и почти никогда не сказал с нею ни единого слова в целых три года. Я спросил Катю: помнит ли она своего учителя? Она посмотрела на меня молча, отвернулась к стенке и заплакала. Стало быть, мог же этот человек хоть кого-нибудь заставить любить себя.