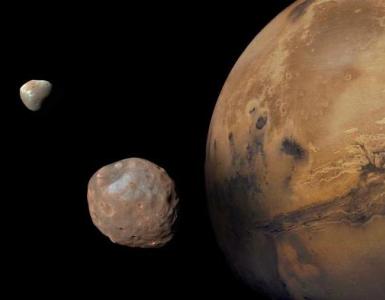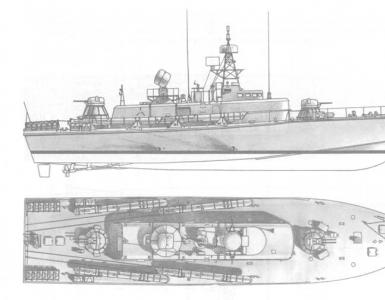Читать по литературе собачье сердце. Собачье сердце
Подобрать удобный для чтения размер шрифта:
Год написания повести : 1925 год
Первая публикация : в журналах «Грани» (Франкфурт) и «Студент» (Лондон) в 1968 году практически одновременно.
Впервые в Советском Союзе повесть Собачье сердце опубликована в 1987 году и с того времени переиздавалась многократно.
В качестве прототипов литературного персонажа профессора Ф. Ф. Преображенского называются несколько реальных медиков. Это - дядя Булгакова врач-гинеколог Николай Покровский, хирург Сергей Воронов. Кроме того, в качестве прототипов называют ряд известных современников автора - учёного Бехтерева, физиолога Павлова и основателя Советского государства Ленина.
Повесть Михаила Булгакова Собачье сердце мы считаем вторым по значимости произведением после Мастера и Маргариты…
Профессор медицины, выдающийся хирург, Филипп Филиппович Преображенский , сумел достичь в 1924-м году, в Москве великолепных результатов в омоложении человека. Он вознамерился продолжить медицинские исследования и решился небывалый эксперимент - провести операцию собаке по пересадке гипофиза человека. В качестве подопытного был выбран бездомный пёс, по кличке «Шарик», которого профессор подобрал на улице. Пес оказался в просторной квартире, его хорошо кормили, за ним ухаживали. У Шарика сформировалась мысль, что он особенный… Донорские органы, которые достались Шарику на операции, принадлежали погибшему в драке Климу Чугункину, вору, дебоширу и алкоголику.
Эксперимент удался, результаты превзошли самые смелые ожидания. У собаки вытягивались конечности, пес лишился шерсти, появилась способность произносить сначала звуки, затем слова, а позднее и полноценная речь… Пес начинал походить на человека внешне… Москва наполнилась слухами о чудесных превращениях, творящихся в лаборатории профессора Преображенского. Но очень скоро профессору пришлось сожалеть о содеянном. Шарик унаследовал от Клима Чугункина все самые неприятные привычки, он получил не только физическое, но и психологическое очеловечивание. Полиграф Полиграфович Шариков (это имя он дал себе сам) обнаружил в себе пристрастие к жуткому сквернословию, пьянству, блуду, воровству, тщеславию, кабацким кутежам и рассуждениям про пролетарскую идею. Шариков устраивается на должность руководителя отдела очистки города от бездомных животных. Помощь ему в этом оказал председатель домкома Швондер, который надеялся таким образом, с помощью Шарикова выжить профессора Преображенского из большой квартиры.
Работа очень нравится Шарикову, за ним ежедневно приезжает служебный автомобиль, прислуга профессора относится к нему с подобострастием, и он не чувствует себя обязанным профессору Преображенскому и доктору Борменталю, которые все ещё пытаются сделать из Шарикова человека, прививая ему основы культурной жизни. Он, как злая собака, получает удовольствие от убийства бездомных котов, но по словам профессора Преображенского, «коты - это временное». Шариков привел в квартиру профессора молодую девушку, принятую им на работу от которой он скрыл свою биографию. Девушка узнает от профессора правду о происхождении Шарикова и отказывается от ухаживаний Полиграфа Полиграфовича - и тогда он угрожает её уволить. Доктор Борменталь вступается за девушку…
После многочисленных злоключений Шарикова, доктор Борменталь вместе с профессором Преображенским проводят новую операцию, возвращая Шарикову исходный облик. Пёс ничего не помнит из того, что он творил в человеческом облике, он остается жить в квартире Филиппа Филипповича Преображенского.
Приятного вам чтения!
Михаил Булгаков
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
У-у-у-у-у-гу-гу-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке - повар столовой Нормального питания служащих Центрального совета народного хозяйства - плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи, боже мой - как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.
Чем я ему помешал? Неужели я обожру Совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это - последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо - грибы, соус пикан по три рубля семьдесят пять копеек порция. Это дело на любителя - все равно, что калошу лизать… У-у-у-у-у…
Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая травка, а кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не грымза какая-то, что поет на кругу при луне - «милая Аида» - так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдешь? Не били вас по заду сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас… Живуч собачий дух.
Но вот тело мое изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что - как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а, получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу…
Дворники из всех пролетариев - самая гнусная мразь. Человечьи очистки - самая низшая категория. Повар попадается разный. Например - покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании - уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.
Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. Сволочи эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и все с красным вином. Да… Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной в «Бар» не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает… Подумать только: сорок копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вон она… Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорет: до чего ты не изящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду - все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.
Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне… Куда пойду? У-у-у-у-у!..
Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик… Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух…
Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.
Боже мой… Какая погода… Ух… И живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?
Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало ее вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.
А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. «Шарик» - она назвала его… Какой он к черту «Шарик»? Шарик - это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо на добром слове.
Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже - вернее всего - господин. Ближе - яснее - господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам - тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза - значительная вещь. Вроде барометра. Все видно - у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься - получай. Раз боишься - значит сто́ишь… р-р-р… гау-гау…
Михаил Булгаков
Собачье сердце
У-у-у-у-у-у-гу-гу-гугу-уу! О, гляньте на меня, я погибаю! Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с нею. Пропал я, пропал! Негодяй в грязном колпаке, повар в столовой нормального питания служащих Центрального совета народного хозяйства, плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий! Господи Боже мой, как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, вою, да разве воем поможешь?
Чем я ему помешал? Чем? Неужли же я обожру Совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире! Вор с медной мордой. Ах, люди, люди! В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо – грибы соус пикан по три рубля семьдесят пять копеек порция. Это дело на любителя – все равно что калошу лизать... У-у-у-у...
Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы, и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная очень хорошая трава, и, кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не грымза какая-то, что поет на кругу при луне – «милая Аида», – так что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда же пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбою своею мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.
Но вот тело мое – изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что: как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...
Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи очистки – самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас! Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании, уму собачьему непостижимо! Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают! Бегут, жрут, лакают!
Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести! Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной червонца в «Бар» не пойдешь! Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает. Подумать только – сорок копеек из двух блюд, а они, оба эти блюда, и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек заведующий хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовке накормили, вон она, вон она!! Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, так, кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй. Он и заорет:
– До чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду – все, все на женское тело, на раковые шейки, на «Абрау-Дюрсо»! Потому что наголодался в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.
Жаль мне ее, жаль. Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому, что действительно мы в неравных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну, а мне, а мне! Куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный, куда же я пойду? У-у-у-у!..
– Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик! Чего ты скулишь, бедняжка? А? Кто тебя обидел?.. Ух...
Ведьма – сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.
– Боже мой... какая погода... ух... и живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?
Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась за ворота, и на улице ее начало вертеть, рвать, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.
А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и издохнет, в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезли из глаз и тут же засохли. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна от вара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара! «Шарик» она назвала его! Какой он, к черту, Шарик? Шарик – это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо ей на добром слове.
Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже вернее всего – господин. Ближе – яснее – господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам – тут уж ни вблизи, ни издали не спутаешь! О, глаза – значительная вещь! Вроде барометра. Все видно – у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься – получай! Раз боишься, значит, стоишь... Р-р-р... гау-гау.
Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет та-акой скандал, в газеты напишет – меня, Филиппа Филипповича, обкормили!
Вот он все ближе, ближе. Этот ест обильно и не ворует. Этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с культурной остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный, – больницей и сигарой.
Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Кол-ба-су. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне!
Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».
Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!
«Собачье сердце» была написана в начале 1925 г. Она должна была быть напечатана в альманахе «Недра», но цензура запретила публикацию. Повесть была закончена в марте, и Булгаков прочитал её на литературном собрании «Никитских субботников». Московская публика заинтересовалась произведением. Оно распространялось в самиздате. Впервые было опубликовано в Лондоне и Франкфурте в 1968 г., в журнале «Знамя» № 6 в 1987 г.
В 20-е гг. были очень популярны медицинские опыты по омоложению человеческого организма. Булгаков как врач был знаком с этими естественнонаучными экспериментами. Прототипом профессора Преображенского был дядя Булгакова, Н.М.Покровский, врач-гинеколог. Он жил на Пречистенке, где и разворачиваются события повести.
Жанровые особенности
Сатирическая повесть «Собачье сердце» соединяет разнообразные жанровые элементы. Сюжет повести напоминает фантастическую приключенческую литературу в традициях Г. Уэллса. Подзаголовок повести «Чудовищная история» свидетельствует о пародийной окраске фантастического сюжета.
Научно-приключенческий жанр – это внешний покров для сатирического подтекста и актуальной метафоры.
Повесть близка к антиутопиям благодаря своей социальной сатире. Это предупреждение о последствиях исторического эксперимента, который необходимо прекратить, вернуть всё на круги своя.
Проблематика
Самая важная проблема повести социальная: это осмысление событий революции, давшей возможность править миром шариковым и швондерам. Другая проблема – осознание границ человеческих возможностей. Преображенский, возомнив себя богом (ему буквально поклоняются домашние), идёт против природы, превращая собаку в человека. Осознав, что Спинозу «любая баба может родить когда угодно», Преображенский раскаивается в своём эксперименте, что спасает ему жизнь. Он понимает ошибочность евгеники – науки по улучшению человеческой породы.
Поднимается проблема опасности вторжения в человеческую природу и социальные процессы.
Сюжет и композиция
Научно-фантастический сюжет описывает, как профессор Филипп Филиппович Преображенский решается на эксперимент по пересадке собаке гипофиза и яичников «полупролетария» Клима Чугункина. В результате этого эксперимента появился чудовищный Полиграф Полиграфович Шариков, воплощение и квинтэссенция победившего класса пролетариата. Существование Шарикова доставило множество проблем домашним Филиппа Филипповича, и, в конце концов, поставило под угрозу нормальную жизнь и свободу профессора. Тогда Преображенский решился на обратный эксперимент, пересадив Шарикову гипофиз собаки.
Финал у повести открытый: на этот раз Преображенский смог доказать новым пролетарским властям свою непричастность к «убийству» Полиграфа Полиграфовича, но долго ли продлится его уже далеко не спокойная жизнь?
Повесть состоит из 9 частей и эпилога. Первая часть написана от имени пса Шарика, страдающего суровой петербуржской зимой от холода и раны на обваренном боку. Во второй части пёс становится наблюдателем всего, что происходит в квартире Преображенского: приёма больных в «похабной квартирке», противостояния профессора новому домоуправлению во главе со Швондером, бесстрашного признания Филиппа Филипповича в том, что он не любит пролетариата. Для пса Преображенский превращается в подобие божества.
Третья часть повествует об обычной жизни Филиппа Филипповича: завтраке, разговорах о политике и разрухе. Эта часть полифонична, в ней звучат голоса и профессора, и «тяпнутого» (ассистент Борменталь с очки зрения тяпнувшего его Шарика), и самого Шарика, рассуждающего о своём счастливом билете и о Преображенском как о маге-кудеснике из собачьей сказки.
В четвёртой части Шарик знакомится с остальными обитателями дома: кухаркой Дарьей и прислугой Зиной с которыми мужчины обращаются очень галантно, а Шарик мысленно называет Зину Зинкой, а с Дарьей Петровной ссорится, она обзывает его беспризорным карманником и грозится кочергой. В середине четвёртой части повествование Шарика обрывается, потому что он подвергается операции.
Операция описана подробно, Филипп Филиппович страшен, он называется разбойником, подобен убийце, который режет, вырывает, разрушает. В конце операции он сравнивается с сытым вампиром. Это точка зрения автора, она – продолжение мыслей Шарика.
Пятая, центральная и кульминационная глава представляет собой дневник доктора Борменталя. Он начинается в строго научном стиле, который постепенно переходит в разговорный, с эмоционально окрашенными словами. Заканчивается история болезни выводом Борменталя о том, что «перед нами новый организм, и наблюдать его нужно сначала».
Следующие главы 6-9 – это история короткой жизни Шарикова. Он познаёт мир, разрушая его и проживая вероятную судьбу убитого Клима Чугункина. Уже в 7 главе у профессора возникает мысль решиться на новую операцию. Поведение Шарикова становится невыносимым: хулиганство, пьянство, кража, приставание к женщинам. Последней каплей стал донос Швондера со слов Шарикова на всех обитателей квартиры.
Эпилог, описывающий события через 10 дней после драки Борменталя с Шариковым, показывает Шарикова, почти превратившегося в собаку снова. Следующий эпизод – рассуждения пса Шарика в марте (прошло около 2 месяцев) о том, как ему повезло.
Метафорический подтекст
У профессора говорящая фамилия. Он преображает собаку в «нового человека». Это случается между 23 декабря и 7 января, между католическим и православным Рождеством. Получается, что преображение происходит в какой-то временной пустоте между одной и той же датой в разных стилях. Полиграф (многопишущий) – воплощение дьявола, «растиражированный» человек.
Квартира на Пречистенке (от определения Богоматери) из 7 комнат (7 дней творения). Она – воплощение божественного порядка среди окружающего хаоса и разрухи. В окно квартиры из темноты (хаоса) смотрит звезда, наблюдая за чудовищным преображением. Профессор называется божеством и жрецом. Он священнодействует.
Герои повести
Профессор Преображенский – учёный, величина мирового значения. При этом он успешный врач. Но его заслуги не мешают новой власти пугать профессора уплотнением, прописывать Шарикова и угрожать арестом. У профессора неподходящее происхождение – его отец кафедральный протоиерей.
Преображенский вспыльчивый, но добрый. Он приютил на кафедре Борменталя, когда тот был полуголодным студентом. Он благородный человек, не собирается бросать коллегу в случае катастрофы.
Доктор Иван Арнольдович Борменталь – сын судебного следователя из Вильно. Он – первый ученик школы Преображенского, любящий своего учителя и преданный ему.
Шарик представляется как вполне разумное, рассуждающее существо. Он даже острит: «Ошейник – всё равно, что портфель». Но Шарик – то самое существо, в сознании которого появляется безумная мысль подняться «из грязи в князи»: «Я барский пёс, интеллигентное существо». Впрочем, он почти не грешит против истины. В отличие от Шарикова, он благодарен Преображенскому. А профессор твёрдой рукой оперирует, безжалостно убивает Шарика, а убив, жалеет: «Жаль пса, ласковый был, но хитрый».
У Шарикова ничего не остаётся от Шарика, кроме ненависти к кошкам, любви к кухне. Его портрет описан подробно сначала Борменталем в дневнике: это человек маленького роста с маленькой головой. Впоследствии читатель узнаёт, что внешность у героя несимпатичная, волосы жёсткие, лоб низкий, лицо небритое.
Пиджак и полосатые штаны у него рваные и грязные, ядовито-небесный галстух и лаковые штиблеты с белыми гетрами довершают костюм. Шариков одет в соответствии с собственными понятиями о шике. Как и Клим Чугункин, чей гипофиз был ему пересажен, Шариков профессионально играет на балалайке. От Клима же досталась ему любовь к водке.
Имя и отчество Шариков выбирает согласно календарю, фамилию принимает «наследственную».
Основная черта характера Шарикова – наглость и неблагодарность. Он ведёт себя, как дикарь, а о нормальном поведении говорит: «Мучаете сами себя, как при царском режиме».
Шариков получает «пролетарское воспитание» от Швондера. Борменталь называет Шарикова человеком с собачьим сердцем, но Преображенский поправляет его: у Шарикова как раз человеческое сердце, но самого плохого из возможных человека.
Шариков даже делает карьеру в собственном понимании: поступает на должность заведующего подотделом очистки г. Москвы от бродячих животных и собирается расписаться с машинисткой.
Стилистические особенности
Повесть полна афоризмов, высказанных разными героями: «Не читайте до обеда советских газет», «Разруха не в клозетах, а в головах», «Никого драть нельзя! На человека или животное можно действовать только внушением» (Преображенский), «Не в калошах счастье», «Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция, бред этих злосчастных демократов...» (Шарик), «Документ – самая важная вещь на свете» (Швондер), «Я не господин, господа все в Париже» (Шариков).
Для профессора Преображенского существуют определённые символы нормальной жизни, сами по себе эту жизнь не обеспечивающие, но о ней свидетельствующие: калошная стойка в парадном, ковры на лестнице, паровое отопление, электричество.
Общество 20-х гг. характеризуется в повести с помощью иронии, пародии, гротеска.