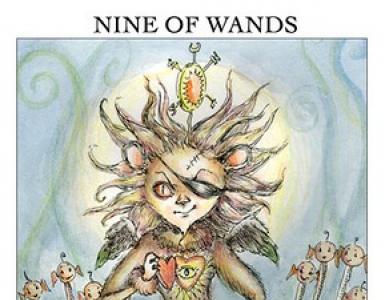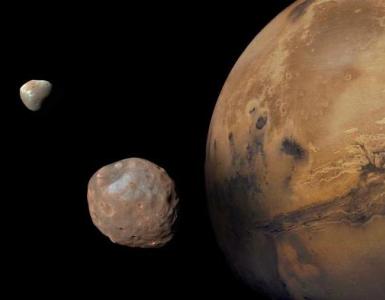«Человек - животное политическое. Человек - это политическое животное Человек от природы есть политическое животное
Признание политики неотъемлемой частью человеческой жизни - идея, уходящая корнями глубоко в историю. Еще античные мыслители задавались вопросами о природе политической жизни. Так, Аристотель доказывал, что заниматься политикой человека побуждает его собственная природа: «Государство принадлежит тому, что существует по природе... и человек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств, живет вне государства, - либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек»12. Согласно Аристотелю, государственная форма политики вырастает естественно: объединение людей принимают сначала форму семьи, затем поселения; затем объединение поселений превращаются в полис - государство. Итак, к занятию политикой человека подталкивает его природный инстинкт. Поэтому логично, что Аристотель называет человека политическим животным - Zoon politikon, не в коей мере те придавая этому словосочетанию обидного смысла. Ведь в самой нашей психологии заложены такие естественные потребности как потребность властвовать и подчиняться. Во второй части учебника мы рассмотрим, как эти человеческие потребности проявляются в российской политической действительности (см. гл. 9). Последующая история политической мысли обогатила наши представления о политике как о театре действия разнообразных человеческих потребностей - как приобретенных, так и врожденных: благородство и жадность, любовь и ненависть, стремление к доминированию и солидарность, потребность в свободе и желание быть частью группы. Признание важности изучения психологии как движущей силы политического поведения в наши дни получило уже не только общефилософскую, но и конкретно-научную форму. Именно политическая психология во второй половине XX в. приступила к исследованию тех психологических факторов, которые мотивируют включение человека в политику и участие в различных ее формах. Психологическая наука, используемая для понимания политических феноменов, диктует и свой подход к исследованию, свой угол зрения на человеческое измерение политики. Прежде всего, внимание политических психологов еще в XIX в. привлекли массовые стихийные формы политического поведения - стихийные бунты, демонстрации, паника, поведение толпы. Начиная с работ французского исследователя Гюстава Лебона13, политическая психология занимается поиском движущих сил таких типов политического действия и находит их преимущественно в иррациональных, т.е. бессознательных, структурах психики человека. Среди отечественных психологов этой проблемой особо интересовался В.М. Бехтерев, предложивший объяснение воздействия толпы на личность через механизмы внушения и образования не только индивидуальных, но и коллективных рефлексов14. Современная политическая жизнь дает немало примеров того, как иррациональные психологические механизмы воздействуют на ход политического процесса. Наверное, одним из наиболее ярких примеров является необъяснимое, на первый взгляд, поведение депутатов парламента на своих заседаниях. Многие их решения продиктованы не столько рациональным расчетом, личными или групповыми интересами, сколько взаимным «заражением» в ходе дискуссии. Так, в сентябре 1995 г. Дума принимает резолюцию по боснийскому конфликту, содержащую требование односторонних действий со стороны России, хотя парламентарии прекрасно понимают, что ни президент, ни МИД, ни другие государственные ведомства не смогут его выполнить: сам ход обсуждения подталкивает депутатов к принятию более рискованных решений, чем те, которые были бы приняты в тиши их кабинетов. В феврале 1999 г. в такую же психологическую ловушку попадает уже Совет Федерации, когда ратифицирует Договор о дружбе между Россией и Украиной. Создается впечатление, что подлинные национальные интересы отступают перед гораздо более приземленными, но вполне реальными личными амбициями, групповыми интересами. На ход голосования оказывает влияние сиюминутное присутствие в зале группы людей, имеющих общие интересы. В психологии такой феномен получил название groupthink - групповое мышление, при котором уже само наличие группы способствует принятию большего рискованного решения. Парламентарии (не только в современной России, но и в других странах) нередко демонстрируют своеобразное политическое поведение: выяснение отношений в политике с помощью кулаков, взаимных оскорблений и других действий, диктуемых исключительно эмоциями. Не случайно еще Г. Лебон15 выделил парламентские собрания как особый вид толпы, подчиняющийся тем законам массового поведения, которые свойственны большим социальным группам - в отличие от малых групп и индивидов. Не следует думать, что наличие контактов в группе других людей всегда способствует некоторому «озверению», как это кажется на первый взгляд. Присутствие других людей, их взаимное внушение, «заряжение», идентификация могут приводить в политике к самым разнообразным эффектам. Так, энтузиазм и сплоченность участников массовых выступлений обусловил успех многих национально-освободительных движений; демократические преобразования стали возможны в годы перестройки в немалой степени благодаря массовым выступлениям самых разных людей, объединившихся и отождествивших себя с идеей демократии. Важно подчеркнуть, что мотивы участия людей в массовых формах политического поведения не только диктуются их рациональными интересами, расчетом, но и эмоциями, они часто не вполне осознаны и в наибольшей степени воздействуют на личность в присутствии других людей во время стихийных политических действий. Сказанное не означает, что политическую психологию интересуют лишь бессознательные проявления человеческой психики. Ряд разделов этой дисциплины специально посвящены изучению политики как организованной деятельности, где рациональные интересы, осознанные цели претворяются в те или иные политические действия. К числу первых современных концепций, рассматривающих человека как компонент политической системы, относится концепция «политической поддержки», предложенная американскими политологами Д. Истоном и Дж. Деннисом (см. гл. 2). Их интерес к человеческому компоненту политики был вызван новыми процессами, в частности необходимостью политической мобилизации населения, ранее не участвовавшего в политике. Процессы, происходящие в настоящее время в России, при всем своеобразии также вписываются в мировой контекст и требуют от граждан их включения в изменившийся политический процесс путем исполнения ролей, которые они ранее не исполняли. Отсюда следует задача рационального включения граждан и в избирательную систему, усвоение ими демократических норм. Одна из наиболее перспективных концепций в современной политической психологии исследует процесс принятия политических решений как во внутренней, так и во внешней политике. На основе экспериментов, эмпирических исследований и теоретических разработок политические психологи предлагают конкретные технологии эффективного политического управления, достижения поставленных политическим руководством целей. Правда, следует заметить, что какими бы совершенными не были научные разработки, чисто рациональные расчеты не дают 100%-ного успеха. Высказывание одного известного российского политика «хотели как лучше, а вышло как всегда» звучит как формула соотношения рациональных и иррациональных факторов, воздействующих на политический процесс. Для политической психологии в равной степени важны оба ряда феноменов: и осознанное политическое участие граждан, рациональная постановка ими политических целей, и проявление иррациональных импульсов, неосознанная политическая активность. Чтобы более предметно представить себе, чем занимается политическая психология, рассмотрим некоторые политические феномены, которые привлекают особенно пристальное внимание исследователей.
В разделе на вопрос Человек- животное политическое. Как вы понимаете это определение Аристотеля??? заданный автором Виктория
лучший ответ это В «Политике» Аристотеля общество и государство по существу не
различаются. Отсюда немалые трудности понимания его учения. Так, он
определяет человека как zoon politikon – «политическое животное» . Но что
это означает? Есть ли человек животное общественное или государственное?
По Аристотелю, человек - политическое существо, т. е. социальное, и он
несет в себе инстинктивное стремление к «совместному сожительству»
(Аристотель еще не отделял идею общества от идеи государства) . Человека
отличает способность к интеллектуальной и нравственной жизни. Только
человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло,
справедливость и несправедливость. Первым результатом социальной жизни он
считал образование семьи - муж и жена, родители и дети.. .Потребность во
взаимном обмене привела к общению семей и селений. Так возникло
государство.
если серьезно: а что нового можно добавить? мы ведь действительно политичны и не только в реале, но в виртуале... пример? у нас на проекте - плюсы, минусеры и пр. у нас формируется общественное мнение в виртуальной жизни... что ж о реале говорить..мы спорим, мы оьщаемся. мы имеем свое мнение... разность мнений закладывается в основу политики
думаю, что Аристотель прав....хотя живет же Агафья Лыкова без политики? но живет то одна! а мы в обществе!
Среди консерваторов практически нет разногласий по поводу того, что правительство должно быть ограничено в своей власти и вести себя соответствующе. В апрельском номере First Things Роберт П. Джордж представляет философское обоснование этой точки зрения, предлагая то, что он называет «основным аргументом в пользу ограниченного правительства».
Джордж утверждает, что полномочия правительства сдерживаются естественным образом, потому что «общее благо политического сообщества является принципиально инструментальным благом». Согласно Джорджу, полис не предлагает нам ничего самоценного, но лишь способствует достижению других, действительно стоящих благ. Он придает большое значение тому факту, что инструментальная природа политического сообщества «налагает моральные ограничения на государственную власть».
Я отношусь с большим уважением к Джорджу и его работе, но меня беспокоит то, что этот довод против тоталитаризма чрезвычайно удобен для эгоистов, которым он противостоял в другом своем сочинении.
Когда политическое сообщество сводится к статусу инструментального блага, в народном воображении укореняется антиавторитарный дух Просвещения. Когда общее благо рассматривается, как у Джорджа, лишь в качестве «набора условий» для комфортного достижения индивидуальных благ, общественно-договорное искажение философской антропологии не становится более прочным: политическое сообщество больше не понимается как естественное, необходимое, верное для человека, но вместо этого рассматривается как созданное на основе контракта с целью ограничения нашей индивидуальной автономии.
Такого рода «локкианский» разрыв с аристотелевской традицией политической философии некорректен, поскольку политическое общество оказывается для человека самоценным. Но благодаря консерватизму оно также явится лишним для успеха более крупного проекта Джорджа, оправдывающего политические ограничения, коль скоро даже самоценный полис был бы полисом ограниченным.
Я бы хотел предложить альтернативу «основному аргументу в пользу ограниченного правительства», соответствующую действительно общественной природе общего блага.
Попытка показать самоценность политического сообщества с самого начала в известном смысле сталкивается с процедурной проблемой. Действительно, по определению внутреннее благо не предполагает благотворности вне самого себя. В этом смысле «фишка дальше не ляжет». Человеческая природа сама склоняет нас к полезному, поэтому нам необязательно разрешать силлогизмы для того, чтобы захотеть благоприятного для нас.
В то же время рациональный анализ природы блага - сущность человеческой природы в действии. И точно также, как я надеюсь показать, политическое мастерство - одна из природных человеческих добродетелей, и ценность государства не исчерпывается тем, что оно содействует гражданам в достижении их собственных индивидуальных благ.
Джордж говорит о том, что правительство вытесняет нашу автономию «[делая] нечто для людей […] вместо того, чтобы позволить совершить это самостоятельно». Вслед за главой VIII «Второго трактата» Локка Джордж понимает государство как что-то установленное помимо воли граждан с целью обеспечения их прав и способностей, которыми они и так изначально обладают.
Полис , о котором говорится в «Политике», отказывается от подобного разделения, объединяя добродетели, необходимые для «хорошего правления», с самим актом правления. Аристотель наставляет, что граждане должны «управлять и быть управляемыми», отведя гражданину место для гражданского руководства.
Джордж отвергает модель самоуправления как фантастическую, что объясняет его обеспокоенность по поводу роста влияния государства, навязываемого нам извне. Но он и может отделять правителей от народа только с помощью «национализации» и «профессионализации» политики, что очень характерно для современной эпохи.
Далекий от этих современных рассуждений Аристотель учит, что управление в основе своей является деятельностью (в большей степени, чем институтом), которой люди занимаются на локальном уровне сообща . И, как отмечает Токвилль, все это повсеместная деятельность, совершающаяся естественно и спонтанно. «Городское управление… настолько близко человеческой природе, что где бы люди ни собирались вместе, городское управление возникнет автоматически».
Эта картина в корне отличается от той, которую предлагает Джордж. С классической точки зрения правительство - это не структура, учрежденная постфактум для того, чтобы помогать гражданам в их индивидуальной деятельности, но по природе своей один из многих самоценных видов человеческой деятельности.
Понимание уникальной роли политического сообщества в человеческом процветании требует переосмысления природы «общего блага». Для Джорджа «общее благо» политического сообщества - это всего лишь сочетание предпосылок, необходимых для достижения его субъектами индивидуальных благ. Но в реальности «общее благо» является общим в наиболее конкретном смысле. Как сказал великий томист Шарль де Конинк в своем революционном эссе On the Primacy of the Common Good , «общее благо является по сути тем, в чем способны участвовать многие».
С этой аристотелевско-томистской точки зрения, общее благо - это не просто результат случайного согласования моего собственного единичного блага с благом моих соседей, но, скорее, одно благо для всех нас, благо, которое стало общим под влиянием всего сообщества.
Предупреждая возражения, отмечу, что это описанное Конинком «общественное благо» не является благом целого, абстрагированным от составляющих его благ отдельных индивидов. Такое понимание также предполагало бы, что общее благо стало общим лишь случайно.
Он пишет: «Общее благо формально не ориентировано на общество постольку, поскольку последнее является случайным целым; это благо субстанциальных целых, которыми являются члены общества. Но, - и это закономерная проблема, - благо субстанциальных целых является таковым лишь постольку, поскольку они скорее части, субъекты целого, нежели отдельные индивиды, отрезанные от сообщества, к которому принадлежат».
Возможно, эта переориентация на политическое общество может пролить свет на его внутреннюю ценность, его уникальную пользу, которая оказывается необходимой для человеческого процветания.
Конечно, без политического сообщества люди лишились бы многих индивидуальных выгод, которые получают, будучи его членами.
Но эти внешние выгоды не придают обществу внутренней ценности. Изначально благо, которое предлагается человеку полисом , - это лишь сама возможность принадлежать к политическому сообществу и принимать участие в его деятельности. И действительно, это благо не может быть расценено как необходимое для человеческого процветания, если рассматривать индивида как простую человеческую особь. Но человек - не просто особь; он социален в силу самой своей природы.
Венчает его социальную природу политическая добродетель. В еще большей степени, чем брак или дружеские связи, политическое гражданство призывает людей к тому, чтобы достигать блаженства, выйти за пределы себя и подчинять свои собственные желания благу сообщества, к которому он принадлежит.
Джорджа беспокоит то, что признание самоценности политического общества противоречит консервативному проекту по защите «ограниченного правительства», будучи характерным скорее для тоталитарного государства, где индивидуальное счастье приносится в жертву благополучию коллектива.
Но это беспокойство безосновательно. Действительно, правительство всегда будет необходимо для человеческого процветания в аристотелевском смысле, поскольку сама политика является неотъемлемой его частью, в то время как, с точки зрения Локка, оно необходимо только потому, что мир устроен таким образом, что многие важные вещи зависят от дальнейшего существования правительства. Но необходимость не влечет за собой всемогущества.
Даже по Аристотелю правительство не является конечной человеческой целью и, следовательно, существуют границы его справедливого правления. Согласно Аквинату, «человек не подчинен политическому обществу по самой своей природе». Это, конечно, не отрицает ориентации человека на полис - как раз наоборот. Но, несмотря на то что в аристотелевской традиции человек по сути своей является гражданином, в ней также, с кивком в сторону иерархии и субсидиарности, отмечается, что гражданство - лишь одна из многих масок человека, или, точнее, одна из многих его идентичностей.
Следовательно, наше теоретическое обоснование «естественных ограничений» государственной власти не должно, как в системе Джорджа, основываться на допущении о второстепенности политического сообщества. Напротив, мы должны защищать ограниченное правительство, используя связь политического общества с другими «внутренне ценными» благами.
Ни одно естественное благо не является всеобъемлющим настолько, чтобы можно было исключить все остальные. Дружба ограничена; здоровье ограничено; брак также ограничен, несмотря на то что он представляет собой союз одной плоти и таким образом всеобъемлющ в одном узком значении. Но брак ограничен не потому, что он - лишь инструментальное благо, но скорее потому, что он - одно из многих самоценных благ, часть необходимых условий человеческого благополучия. То же самое верно и для гражданственности.
Не памятовать, что человек не сводится к гражданскому статусу, характерно для тоталитаризма, а не для традиции аристотелизма. Как пишет Конинк, «несмотря на то что человек, индивид, член семьи, гражданин, etc. являются одним и тем же субъектом, они формально различаются. Тоталитаризм [ошибочно] идентифицирует статусы “человек” и “гражданин”». Аристотель, напротив, в действительности уважает ограниченный характер даже полезных продуктов человеческой воли, включая правительство. Все эти естественные блага вносят свой вклад в человеческое благополучие, но ни одно из них не способно обеспечить его в одиночку.
Отношение к политическому сообществу как к самоценному благу является более надежным фундаментом для ограниченного правительства, чем сведение его к благу инструментальному. Если мы маркируем правительство в качестве одного из многих самоценных благ, мы можем увидеть, где заканчивается политическое сообщество и начинаются другие блага. Эта картина проясняет естественные границы политики. Правительство получает свою собственную сферу деятельности, но эта сфера по сути своей является ограниченной.
Политическое сообщество, понимаемое лишь в качестве инструмента для реализации индивидуальных благ, в свою очередь, открывает двери для государственного посягательства всякий раз, как только правительство считает, что оно в состоянии помочь. И, как показывает нам новейшая история, государство склонно полагать, что оно способно помочь почти в любой ситуации; даже наше правительство с четко обозначенными границами власти нарушает их на каждом шагу. Когда правительству отказывают в его собственной сфере влияния, в коей оно значимо в качестве самоценного блага, оно пытается овладеть любой доступной территорией.
Слова Де Конинка и в дальнейшем неизменны: «Ложная идея общего блага, присущая персоналистам», - тем, кто подчинял общее благо политического сообщества индивидуальному благу его членов, - «объединяет их с теми, с чьими ошибками они, как им чудится, борются». Несмотря на надежду Джорджа на то, что отрицание внутренней ценности воли правительства сократит его экспансию, на практике инструментализация государства ведет к обратному результату.
Этим практическим последствиям вряд ли стоит удивляться. В конце концов, то же самое теоретическое основание, которое Джордж представляет в качестве базы для сдерживания правительства, предлагается и таким гениальным противником политических ограничений, как Томас Гоббс. Даже Левиафан, понятый как инструментальная ценность, хорош только в силу его способности защищать людей, удерживая их от убийства друг друга в «войне всех против всех».
Мы не должны следовать за Гоббсом в поиске надежных основ для ограниченного правительства. Я убежден в том, что у нас нет необходимости заглядывать дальше, чем мыслитель, провозгласивший человека прежде всего политическим животным.
Феномен власти простой и одновременно настолько непостижимо сложный, что чем больше над ним размышляешь, тем он кажется таинственнее и непонятнее. Власть ассоциируется с притеснением людей, превращением их в рабов или винтиков социальной; власть не может осуществляться без насилия и одновременно предполагает покорность. Кажется, что она несет только страдание, в том числе и тем, кто правит. И вместе с тем, без учета скрытого наслаждения властью непонятно, почему к ней стремятся даже те, у кого хватает ума понять, что они сами будут страдать от нее. Власть можно описать в терминах порядка и на практике постараться избавиться от насилия. В современных обществах она уже не репрезентируется правительством и не афиширует себя, но тем не менее через систему масс-медиа настолько приближается к индивиду, что становится его нутром - системой желаний, системой очевидностей и различий между ними, образующими внутреннюю цензуру как мысли, так и чувства. В такой форме она становится тождественной культуре или цивилизации, образованию или просвещению. Бороться с нею особенно трудно, ибо приходится протестовать не против деспотических лиц или господствующих слоев, навязывающих свою идеологию в качестве универсального мировоззрения, а против самого себя.
Пожалуй, одним из немногих власть как стратегию понял Платон, который приступил к моделированию идеального государства, где порядок поддерживается не тиранами и не народом, а знающими людьми - правителями, заботящимися о благе и испытывающими исключительно возвышенное наслаждение. В государстве Платона подданные попадают в сети власти не путем насилия и мучений, а благодаря занятиям гимнастикой, музыкой и танцами и наслаждению от них. Само идеальное государство у Платона - это особая настроенность тела и души. Поэтому его учение о государстве оказывается своеобразной политической психологией, направленной на воспитание души. Сила государства не в деньгах или оружии, а в силе духа его граждан. Отсюда философское наставничество должно служить формированию государственного инстинкта. Политика у Платона оказывается «пайдейей», или политическим воспитанием. Ее нельзя сводить к просвещению или морализаторству, к облагораживанию исключительно души.
Тот, кто ориентирован на стерильную духовность или демократию, бывает неприятно поражен чтением платоновского «Государства», в котором воспитание достигается как телесными практиками вроде гимнастики, так и откровенно евгеническими рецептами и даже регулированием браков. Для тех, кто усвоил общие черты греческого мировоззрения, фантазии на тему идеального государства не вызывают удивления. Отчасти социальные утопии античности определяются устройством полиса, который казался естественным и наилучшим способом реализации государства, отчасти эстетически-математическими моделями Космоса.
Как известно, «Государство» начинается с размышлений о справедливости, в ходе которых обнаруживаются основные противоречия последней. Наиболее сильное впечатление оставляет речь Фрасимаха, который выдвинул утверждение, что справедливость - это право и благо сильного: «Несправедливость, достаточно обширная, сильнее справедливости, в ней больше силы, свободы и властности, а справедливость... это то, что пригодно сильнейшему, несправедливость же целесообразна и пригодна сама по себе»2. Быть же справедливым вообще - значит поступать себе во вред: «Справедливый человек везде проигрывает сравнительно с несправедливым»3.
Из этой концепции вытекают двоякие последствия. С одной стороны, безнаказанно творить несправедливость выглядит как высшее благо. В доказательство приводится миф о Гигесе, нашедшем волшебное кольцо, благодаря которому можно стать невидимым. Стремление удовлетворять свои тайные желания, которые осуждаются или запрещаются, кажется неискоренимым. Оно-то и образует основу наслаждения властью. Поведение человека обусловлено не только мнением окружающих, но и собственными убеждениями. Платон поднимает проблему, которая остается неразрешенной и поныне. С одной стороны, справедливость кажется полезной для общества, хотя там ее нет. С другой стороны, хотя человек взывает к справедливости со стороны других, сам он не всегда способен поступать справедливо и вынужден принуждать себя быть справедливым. Природа человека, его инстинкт влечет его к несправедливости и он не воспринимает внутренне собственную справедливость как благо. Нарушая ее в отношении к другим, он оправдывает себя тем, что делает это во имя собственного блага. Как справедливость может стать формой душевного здоровья человека? Вот в чем вопрос государства, которое берет свое начало не от общественного договора, а от внутренней решимости быть справедливым. Неудивительно, что государство рассматривается по аналогии с душой и имеет те же самые болезни. Принцип справедливости, согласно которому каждый должен делать свое дело, вытекает из понимания соотношения целого и частей.
Платон говорил о необходимости ограничить размер идеального государства. Оно должно быть таким, чтобы способствовать наивысшему единству, т. е. не слишком малым, но и не слишком большим. Хорошо воспитанные стражи будут представлять сообщество друзей, у которых все общее. При этом Платон рекомендовал избегать новшеств, которые могут нарушить порядок, и настаивал на строгой цензуре. Начинать следить за порядком следует уже среди маленьких детей, которые приучаются в играх соблюдать правила и превращаются в законопослушных граждан. Далее, младшим следует молчать, когда говорят старшие, иметь опрятную наружность и т. д. Рассуждая о добродетелях идеального государства, собеседники сходятся в том, что в нем мужество должно соединиться с мудростью и это единство выражается в рассудительности. Последней добродетелью идеального государства является справедливость, и она получает неожиданно легкое определение как целостность государства: «каждый отдельный человек должен заниматься чем-нибудь одним из того, что нужно в государстве, и притом как раз тем, к чему он по своим природным задаткам больше всего способен...Заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие - это и есть справедливость»4. В таком определении достигается совпадение личного и общего: «справедливый человек нисколько не будет отличаться от справедливого государства»5.
Не только государству, но и каждому отдельному человеку необходимо научиться согласовывать мудрость и мужество и проявлять рассудительность. Их единство - это и есть справедливость. По сути дела здесь речь идет о контроле за удовольствиями. Желание пить и есть вполне естественное. Однако человек может воздерживаться от желаний, и это свидетельствует о том, что в душе есть нечто отличное от вожделеющего начала, которое, по сути, является животным. Оно определяется как разумное начало души. Поскольку в государстве и в душе каждого отдельного человека имеются одинаковые начала, постольку возможен перенос государственной справедливости на индивидуальную. Таким образом, здесь дается онтологическое обоснование единого понятия справедливости. Единство начал в душе осуществляется теми же самыми воспитательными приемами, что и те, которые используются для совершенствования государства. Человек, у которого разумное начало управляет вожделеющим, будет честным, надежным и справедливым. Причиной тому, утверждает Сократ, является то, что каждое из имеющихся в человеке начал делает свое дело в отношении правления и подчинения.
Справедливый человек содержит начала своей души в справедливой гармонии и каждому дает выполнять его роль: «Он владеет собой и становится сам себе другом»6. Начала души гармонически соединяются в душе подобно тонам в музыке. Так достигается слаженность и рассудительность и она проявляется в ведении дел как частных, так и государственных. Платон не отрицает роли аффектов: ярость и гнев против врагов необходимы. Пафос нужен для защиты справедливости, а эрос - для поиска истины. Однако существуют отрицательные аффекты и вожделения. Трусость и зависть, пьянство и любодеяние - все это источник зла. Вместе с тем, это и естественные желания. Они становятся пороками, когда получают власть над душой. Трусость не была в чести в античном мире, однако и тогда было ясно, что осторожность необходима. Проблема пороков решалась сравнительно просто: вожделение становится злом, когда приводит в расстройство целое, оказывается источником болезни и разрушения. Неспособный справиться со своими желаниями человек наносит вред окружающим.
Определяя человека как политическое существо, Платон выводит возникновение государства из необходимости удовлетворения естественной потребности человека в пище, одежде, жилье и т. д., которая может быть эффективно удовлетворена объединением усилий отдельных индивидуумов. Чтобы выжить, человек вынужден сотрудничать и сообща создавать условия своей жизни. Это сотрудничество усиливается по мере специализации и кооперации людей, что постепенно приводит к возникновению государства. Таким образом, в отличие от философов Просвещения Платон понимает государство не как продукт договора, а как результат исторического опыта совместного выживания людей.
Важным является различие в оценке естественных потребностей. Если европейские философы принимают христианское отношение ко всему природному и телесному, т. е. усматривают в них источник насилия и хаоса, и поэтому вынуждены трактовать законы как запреты, ограничивающие инстинкты, то античные мыслители находят в человеческой природе врожденное стремление к кооперации и взаимной помощи, и отсюда считают государство органичным продуктом эволюции живых существ.
Аристотель также определял человека как политическое животное. Но что это, собственно говоря, значит? Почему человек определяется как животное, и при этом политическое? В трактате «О душе» животные классифицируются по способности к общественной жизни, а в качестве критерия используются телесные признаки и формы поведения. Различая «биос» и «праксис», Аристотель приходит к выделению животных, ведущих индивидуальный и общественный образ жизни. Конечно, пчелы, муравьи и другие «политические животные» не являются людьми, и слово «политический» не содержит здесь этического аспекта, а раскрывается как способность сообща добывать пищу, воспитывать детенышей, защищаться от врагов и т. п.
В «Политике», где человек определяется тоже как политическое животное, суть дела представляется по-другому. Исследуя совместную деятельность людей, Аристотель употребляет этические категории для описания принципов совместной жизни, которые в работе «О душе» задаются чисто инструментально, в понятиях целесообразности экономии и эффективности. Возникает вопрос: как мог такой корректный в логическом отношении мыслитель допустить столь элементарную ошибку и соединить совершенно различные определения человека. Однако именно корректное соблюдение законов формальной логики заставляет по-иному посмотреть на определение Аристотеля: может быть в его замысел входило объединение понятий человека и животного, этического и политического.
Аристотель пишет в «Политике», что человек «есть существо общественное в большей степени, чем муравьи и пчелы»7. И здесь это «больше» раскрывается не по уровню организации совместной деятельности, а по этическим критериям: «Только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т. п.»8. Политические и этические качества человека раскрываются ссылками как на природу, так и на полис. Если необходимость удовлетворения первичных потребностей приводит к сотрудничеству и кооперации у животных, то государство формируется только у людей. Его возникновение Аристотель раскрывает как бы в двух аспектах. Во-первых, как естественный продукт развития семейных и племенных форм единства. Отсюда определение: «Государство принадлежит к тому, что существует по природе»9. Во-вторых, Аристотель утверждает, что живущий вне государства человек не является нравственным существом10. Определение человека как члена полиса приводит к такому пониманию человека, в котором находят место его природные потребности, а также способность к речи и мышлению, которые, как отмечает Аристотель, «создают основу государства». Отсюда нет никакого противоречия в том, что государство и человек, с одной стороны, возникают по природе, а с другой стороны, раскрываются в этическом и политическом измерениях. Только в государстве человек может удовлетворить свои естественные потребности и рассчитывать на достижению высшей цели - Блага. Он является более совершенным политическим существом, чем животное, так как его цели более значительны. Они уже не исчерпываются самосохранением, а ориентированы на этические ценности. Так человеческая природа формируется, преобразуется и совершенствуется в полисе.
Греческие города-полисы могли себе позволить индивидуальную работу с юношами и культивировали дружбу и философию. При этом наставники не ограничивались открытием истины, а путем всестороннего и несколько утомительного разговора убеждали юношей в необходимости того или иного решения. Переговоры лежали в основе афинской политической демократии. Побеждал тот, кто наиболее убедительно говорил. Историки античности пишут об упадке полисов как автономных единиц и формировании более крупных государственных образований, таких, как монархия Александра Македонского и Римская империя. В связи с этим прямая демократия - непосредственное участие граждан в принятии решений уходит в прошлое и на смену представителям привилегированных групп общества приходят профессиональные политики и чиновники. С ощущением утраты личного участия в делах государства приходит разочарование в смысложизненном значении политики и, как следствие, культивируется идеал частной жизни. Именно его обоснование имело место в работах Марка Аврелия, Сенеки, Цицерона и других известных римских авторов. По мнению Фуко, было бы ошибочным оценивать процесс политической жизни в рамках Римской империи исключительно в терминах упадка общественности, захвата и отчуждения власти профессиональными политиками. Страх перед чрезмерностью и сложностью пространства огромной империи, состоящей из разнородных этносов, усиление государственной власти и неожиданные повороты судьбы в жизни ее представителей, инфляция традиционных добродетелей политика - таких, как рассудительность, мужество и справедливость, на самом деле были реакцией старой политической культуры на инновации, успешные и эффективные в изменившихся условиях.
Можно предположить, что историки античности невольно переносили в прошлое переживания собственного существования в рамках крупных бюрократизированных государственных образований Европы. Между тем, национальные государства представляют собой весьма своеобразные формы единства, опирающиеся на идеи «духа Афин», но реализующие его посредством государственной системы контроля за всеми сферами общественной жизни, в том числе за образованием и чтением. Государственная цензура находилась в противоречии с принципом свободы духа, и это порождало пессимистические настроения и либеральные надежды европейской интеллигенции. Очевидно, что перенос этих настроений и ожиданий в прошлое является неправомерным. Поэтому Фуко предложил модернизированный подход к реконструкции политической жизни Римской империи, которая действительно чем-то напоминает нашу эпоху упадка контролирующей и регулирующей функции национальных государств, становления транснациональных финансовых, экономических и информационных систем. Дело даже не в таких общих чертах повседневной жизни, как снижение роли интеллектуального воспитания, наставничества, основанного на передаче личного опыта от учителя к ученику, и развития ориентированных на зрелища форм управления коллективным телом толпы, но и в самой пестроте и сложности общественной ткани. Фуко писал: «Уместнее говорить не об ограничении или прекращении политической деятельности в результате имперской централизации, а, скорее, об образовании сложного пространства, более широкого, не столь прерывистого и гораздо менее закрытого, нежели пространство маленьких городов-государств, - и одновременно более гибкого, дифференцированного и не так жестко иерархизированного, как в позднейшей авторитарной бюрократической Империи, которая складывается в ходе великого кризиса III века... Это пространство множественных очагов власти, бесчисленных форм деятельности, напряжений, конфликтов, которые развиваются во всех измерениях, уравновешиваясь разнообразными соглашениями»11.
Важным для оценки форм жизни в эпоху Империи кажется то обстоятельство, что Рим, в отличие от Афин, был в значительной мере политической фикцией, нежели неким органичным образованием, снабженным «почвой», «кровью» и «духом». Спектакулярность общественной жизни, столь характерная для нашего общества, весьма успешно была опробована еще в поздней Римской империи. Поучительно и то, что империя потерпела поражение от варваров, не охваченных политической семиотикой Рима. Похоже, в этом состоит слабость и современных стерильных обществ потребления, которые оказываются беспомощными перед лицом грубых форм зла, идущих с Востока.
Символические спектакли, разыгрываемые на экранах и страницах масс-медиа, увлекают своих и позволяют манипулировать общественным мнением, но они не действуют на чужих. Упадок патриотизма, отсутствие интереса к политике, культ частной жизни и другие черты, сближающие жителей современных мегаполисов с просвещенными слоями Римской империи, было бы поспешно расценивать как разрушение общественно-политической ткани. В частности, как полагает Фуко, внимание элиты к этике удовольствий означает не разочарование и уход от общественной жизни, а поиск нового способа ее осмысления и консти-туирования себя как морального и ответственного субъекта в новых изменившихся условиях.
Если открыть переписку Плиния с Траяном, то поражает несоответствие обсуждаемых там мелких вопросов с положением авторов. Почему римляне строили бани, театры, форумы, и не только в Риме, но и в завоеванных странах, а не ограничились идеологической пропагандой духовного и прочего превосходства римской культуры? Если воспринимать баню так, как она изображается на средневековых картинках, то упорство римлян непонятно. Баня и сегодня воспринимается если не как притон, то как зона повышенной опасности. Именно так она и отражена в средневековых «комиксах»: на первой картинке изображен собирающийся в баню муж и негодующе реагирующая не его сборы жена. Она знает, зачем он берет так много денег и тщательно «прифуфыривается». И действительно, на следующей картинке он изображается предающимся в бане пьянству и разврату. И третья картинка, где раздетый, обобранный и избитый муж выброшен из бани, закрепляет представление о бане как о притоне, куда не следует ходить. Моральным пространством в средние века считался прежде всего храм. Напротив, у римлян баня была частью повседневного порядка и связывала свободное время граждан, оберегая их от опасных антиобщественных аффектов. И даже бои гладиаторов были частью этой стратегии канализации влечений.
Подобно тому, как афинские граждане оказывались рабами уха, слушающего поставленный голос, римские граждане оказывались рабами глаза, требующего зрелищ. Ранние христиане восстали против этой визуальной тирании и опирались на телесность странствующего иудейского народа, склонного и к слову, и к свету. Христиане устранились из городского центра тем, что создали новый в собственном воображении. Однако порядок жизни, выполненный в камне земного города, не соединялся с идеалами божьего града, которые, впрочем, точно так же не воплощались в реальности. И все-таки европейская история выступает нечем иным, как попыткой соединить несоединимое. Создается специальное душевное и моральное место, где люди сопереживают страданиям Христа и прощают друг друга,
но при этом возникает противоречие храма и улицы, храма и рынка. Время от времени власть предпринимала попытки очищения улиц и рынка от разного рода чужеродных элементов, угрожающих храму. Но это не помогало. Можно указать на интересные попытки соединить эти разнородные пространства. Взамен уничтожения или изгнания евреев и других чужестранцев венецианцы придумывают гетто как такое место, где примиряются интересы храма и рынка, своего и чужого. Конечно, попытки спасения духовного центра ни в Венеции, ни в Париже не были безусловно успешными. Рынок побеждал храм. Следствием этого стали не только автономные и независимые индивиды, но и появление на арене истории нищей и голодной толпы. После Великой французской революции возникает новая задача - организовать единое коллективное тело, для решения которой использовались символы братства и единства, праздники, демонстрации и шествия. Однако пустота общественного пространства порождала одиночество и пассивность, ставшие результатом усилий по воссозданию коллективного тела.
Идея и образ тела задают поле власти и ее работу в пространстве города. В сущности, устройство таких городов, как Афины и Рим, тесно связано с образом общественного тела. Напротив, центром средневекового города является храм, где страдающее тело Христа представлено в единстве камня и плоти. Именно христианский храм, а не только идеи теологов и проповеди священников, воплощал в себе стратегию производства страдающего тела, которое выступает основой достижения единства. В новое время находят иной способ сборки общественного тела. Все не соответствующие нормам экономии и рациональности - безумцы, больные, нищие изгоняются и изолируются. Создаются каторжные дома для преступников и гетто для чужих. Город воспринимается в медицинских метафорах как очищенное от нездоровых элементов место, которое функционирует как общественная машина со своим «сердцем» и «легкими», «артериями» и «нервами. Представление города как процесса обращения и циркуляции по-новому задает проблематику единства. Здесь уже не требуется отождествления индивида и полиса, о котором говорил Фукидид как об источнике величия Афин. Индивид освобождается от непосредственной власти общего и становится автономным, но, циркулируя по коммуникативным сетям города, он начинает терять себя. Утрата связи с общиной, превращение человека в винтик экономической мегамашины порождают чувство одиночества.
Автократические режимы опираются на инстинктивные программы
Для этолога - это примитивные самообразующиеся структуры, просто разросшиеся до гигантских размеров. Их построили не гении, а «паханы». Самосборка геометрически совершенных структур бывает и в неживой природе. Каждый мог наблюдать, как в насыщенном растворе самособираются красивые кристаллы. Кто не любовался причудливой формой снежинок, образующихся из паров воды в воздухе! У воды есть несколько вариантов (программ) самосборки, и в зависимости от внешних условий образуются разные снежинки.
В силу инстинктивных программ люди самособираются в иерархические пирамиды, это почти так же неизбежно, как образование кристаллов. Если будет задействован весь ряд иерархических программ, люди могут образовать огромную по масштабам, но примитивную по устройству структуру соподчинения - авторитарную империю. Эта структура совсем не обязательно самая выгодная для каждого человека и всех вместе или самое эффективное и правильное из того, что люди могли бы создать. Это всего лишь самое простое. С этологической точки зрения образовать автократическое государство - это не подняться на вершину, что требует верно направленных усилий, а скатиться в воронку, для чего можно либо вообще усилий не применять, либо применять их неверно, барахтаться. Взгляд неожиданный, но продуктивный.
«Человек - животное политическое», - написал когда-то Аристотель, знаток животных и создатель зоологии. Политическое - это полисное, образующее структуру иерархически оформленного поселения, как муравей - животное муравейниковое, озерная чайка - колониальное, медведь - территориальное, а аист - семейное.
Если подсознание определяет бытие. Между людьми есть и материальные отношения. Какими они были у предков? Для общественных насекомых сложно организованное, с разделением труда, производство пищи и строительство значат все. Ничего подобного у приматов нет (человек - исключение). Но некоторые материальные отношения между ними имеются, у этих отношений есть инстинктивная основа, и она-то, конечно, сказала свое слово, когда человек занялся производством материальных благ.
Старые представления о долгих сотнях тысяч лет коллективных охот на крупного зверя, а с ними и споры гуманитариев о том, как делили предки человека добычу, теперь стали анахронизмом. Период Больших Охот был кратким счастливым мигом, его прошло далеко не все человечество, и охотники почти везде вымерли, а не превратились в земледельцев. Те более полутора миллионов лет, когда происходила биологическая эволюция предков разумного человека, туши животных не добывали, а находили. Как в таком случае поступают звери и птицы в хорошо изученной зоологами саванне, довольно ясно: охраняя тушу от конкурентов, ее быстро разделывают, растаскивают по кускам и съедают, сколько в кого влезет. Хранить или таскать с собой недоеденное в саванне будет только идиот. Там даже прайду (устойчивой группе) львов и леопарду не всегда удается уберечь добычу от гиен и гиеновых собак. Спрятать ее почти невозможно: грифам и сипам сверху видно все. Слабым, ничего не видящим ночью людям (ведь в отличие от старых представлений мы теперь знаем, что ни костров, ни собак у них не было) подвергнуться из-за остатков туш нападению стай гиен или даже одиночного льва, тоже питающегося чужими объедками, было бы совсем некстати.
Большие запасы пищи впервые, по-видимому, стали появляться у растениеводческих популяций после сбора урожая. В силу мозаичного распределения пригодных для посевов участков и привязанности к ним в таких группах должна была ослабевать оборонительная структура. Вот тут-то их вместе с их собственностью и могла подмять под себя иерархически сплоченная группа ничего не производящих людей. Она могла выступить в роли захватчиков, а могла и в роли добровольно-принудительных защитников от других захватчиков. Она могла быть местной, говорящей на том же языке, а могла быть и пришлой.
С каким же набором врожденных программ люди могли вступить в экономические взаимоотношения? Да с тем же, что был у них и их предков всегда.
Шесть способов присвоить чужое. Почти все виды общественных животных имеют шесть врожденных программ заполучения чужого добра.
Первая - это захват и удержание самого источника благ: богатого кормом места, плодоносящего растения, стада малоподвижных животных, трупа, источника воды и т.п. Захваченное добро удерживается силой: всех, кого можно прогнать, прогоняют. Вы все могли наблюдать действие этой программы на кормушке для синиц. После ряда стычек ее захватывает самый настырный самец и старается никого больше не подпустить к пище. Синицы - пример всем знакомый, но очень простой. Есть виды с куда более изощренными приемами удержания источника благ, особенно когда этим занимаются не в одиночку, а группой. У человека подобная программа проявляется еще в раннем детстве. Поскольку, как правило, удержать за собой источник благ может лишь сильная особь, постольку для посторонних сам факт обладания им - это признак силы власти.
Вторая - это отнятие чужой собственности силой, пользуясь своим физическим превосходством (ограбление). Дети начинают грабить раньше, чем говорить.
Третья - отнятие добра и благ у стоящих ниже рангом без стычки, «по праву» доминирования. Отнятие - один из способов утверждения иерархии (многие виды занимаются этим все время, хотя бы в символической форме). Так ведут себя и общественные обезьяны. У них подчиненные особи не только безропотно отдают все, что заинтересует доминанта, но и, упреждая его гнев, «каждый сам ему приносит и спасибо говорит». Сразу даже не поймешь, дань это или подарок. Много всякого интересного и грустного возникло на этой основе у людей. Во все времена начальники вымогали «подарки». Сколько стел сохранилось с перечислением и изображением подданных, выстроившихся длинной вереницей с подношениями тирану. В Москве был даже Музей подарков товарищу Сталину. Для нашей же темы важен другой аспект: передача добра снизу вверх по иерархической пирамиде для людей «естественна» в том смысле, что имеет хорошо отлаженную инстинктивную основу.
Четвертая программа заполучения чужой собственности - похищение. Воровство принципиально отличается от грабежа тем, что его совершает особь, стоящая рангом ниже обворовываемой. Поэтому воруют животные тайно, применяя разного рода уловки, стащив - убегают и прячут или съедают незаметно. Когда у животного запускается программа воровства, то сразу предупреждает о запрете: попадешься - прибьют. У обезьян из-за их жесткой структуры воровство процветает вовсю. Человек - тоже существо вороватое.
Пятая программа - попрошайничество. На него способны почти все животные. Вспомните зоопарк: это коллекция попрошаек разных видов. Очень часто поза попрошайничества имитирует позу детеныша, выпрашивающего корм. Попрошайничество кое-что дает: увидев особь, вставшую в эту позу, некоторые животные делятся пищей или могут потесниться на кормном месте. Общественные обезьяны - ужасные попрошайки, это знает всякий. Просят они так настойчиво и жалко, что не подать им трудно. Попрошайничество всегда адресовано вверх: обращено или к тому, кто захватил источник благ, или к более сильной особи, или к равной по рангу. Естественно, что попрошайничают в основном обезьяны, находящиеся на нижних этажах иерархии. Попрошайничество детенышей - особая статья, так же как попрошайничество самок, если их подкармливают самцы. У человека попрошайничество развито сильнее, чем у обезьян: мы все время что-нибудь просим или вынуждены просить.
Наконец, шестая программа - обмен. Он развит у обезьян и некоторых врановых. Меняются животные одного ранга. У обезьян и ворон обмен всегда обманный: у них есть очень хитрые программы, как обдурить партнера, подсунуть ему не то, захватить оба предмета, которыми начали меняться, и т.п. У человека обмен тоже развит, и подсознательная его сторона - обязательная выгода («не обманешь - не продашь»). Честный взаимовыгодный обмен - позднее достижение разума, борющегося с мошеннической инстинктивной программой.
Чье лицо у социализма? В прошлом веке, когда о жизни обезьян почти ничего не знали, сообщения о том, что они делятся пищей, привели в умиление некоторых мыслителей. Еще бы! Стоит развить эту милую привычку дальше - и получишь общество справедливого распределения у предков человека. И в нашем веке некоторые умоляли зоологов: найдите, найдите «зачатки», они так нужны для фундамента Верного Учения! Раз оно их предсказывает - должно быть. Но все напрасно. Не нашли. Зато выяснили другое. Иерархи стадных обезьян никогда не делятся с другими самцами тем, что добыли сами, своим трудом. Они раздают отнятое у других, причем то, что оказалось ненужным самому. При кочевом образе жизни все, что не смог сожрать и спрятать за щеку, приходится или бросать, или «распределять». Одаривают «шестерок» и самых униженных попрошаек, зачастую по нескольку раз вручая подачку и тут же отбирая. Эта процедура - не забота о ближнем, а еще один способ дать другим почувствовать свое иерархическое превосходство.
Этологи проделали с обезьянами много опытов по выяснению материальных отношений. Вот один из них. Если обучить содержащихся в загоне павианов пользоваться запирающимся сундуком, они сразу соображают, как удобно в нем хранить пожитки. Теперь, если доминанта снабдить сундуком, он только копит отнятое добро, ничего не раздавая. Если все получают по сундуку - доминант все сундуки концентрирует у себя. Второй опыт: обезьян обучили, качая определенное время рычаг, зарабатывать жетон, на который можно в автомате купить то, что выставлено за стеклом. Общество сразу расслоилось: одни зарабатывали жетон, другие попрошайничали у автомата, а доминанты - грабили, причем быстро сообразили, что отнимать жетоны, которые можно хранить за щекой, выгоднее, чем купленные тружеником продукты. Труженики сначала распались на два типа: одни работали впрок и копили жетоны, тратя их экономно, а другие, как заработают жетон, так сразу и проедают. Спустя некоторое время труженики-накопители, которых грабили доминанты, отчаялись и тоже стали работать ровно на один жетон и тут же его тратить. Эти и многие другие исследования показали, что на основе своих инстинктивных программ приматы коммунизма не строят. Они строят всегда одно и то же - «реальный социализм».
Прообраз «государства нового типа». Для историков и мыслителей ХIХ в. первыми государствами были рабовладельческие деспотии Среднего Востока. Теперь же мы знаем, что деспотиям предшествовали дворцы-государства. Они были на Среднем Востоке, в Средиземноморье, Индии, Китае, а также на Американском континенте (что особенно важно, потому что это независимые цивилизации). На сегодня это самые ранние государства в истории человечества. Устройство их поначалу казалось странным: центр всего - большое сооружение, целый лабиринт каких-то помещений. Постепенно выяснилось, что это разного рода склады - «закрома родины». Некоторые из государств обладали письменностью, плоды которой заполняют часть помещений дворца, - это архивы. Содержание текстов не оставляет сомнения: это инструкции - что, где, когда сеять, жать, доить, сколько чего поставить в закрома и когда, кому, какие строительные и транспортные работы произвести. А также кому сколько из запасов выдать на пропитание, посев, строительство. Исполняли все это окрестные поселения. Их могли населять местные жители, у которых отняли право инициативы, полусвободные крепостные, завоеванные аборигены, добытые войной государственные рабы - не столь важно. Управляла ими (ради их же блага, разумеется) централизованная административная система чиновников, построенная по иерархическому принципу. На вершине пирамиды стояло, видимо, несколько человек. По крайней мере, если царь и был, он был всего лишь военным предводителем. Формально собственность находилась в руках государства, чиновники ее только учитывали, собирали, перераспределяли и... гноили (о последнем свидетельствуют раскопки складских помещений). Из четырех действий арифметики им хватало двух: отнять и разделить. Такая экономическая система складывается очень легко из тех инстинктов-кубиков, которыми располагают приматы, и им соответствует, подобно тому, как структура власти складывается из иерархических кубиков.
Время смело государства-закрома. Но когда в нашем веке при много более высоком техническом уровне людей заставили строить свои страны по утопическому, а посему невыполнимому проекту, они построили, что смогли. А смогли они то, о чем предупреждали знающие люди: неэффективную сверхцентрализованную систему, в которой лишенные собственности и инициативы «массы» плохо работают, попрошайничают и воруют, а возвышающаяся над ними огромная административная пирамида разворовывает и уничтожает львиную долю того, что отнимет в свои закрома; систему, до тонкостей повторяющую государства-дворцы, построенные на заре истории. Как видите, инстинкты, превращающие столь привлекательную на бумаге идею социализма в уродца, по-прежнему живы, никуда они не делись за прошедшие 3-5 тыс. лет. И никогда никуда не денутся. Поэтому и через тысячу лет, если кто-либо вновь встанет на этот путь, получится опять социализм с обезьяньим лицом.
Сейчас полезно понять, что «реальный социализм», как всякое низкое (простое, достижимое разрушением) состояние, подобен воронке: в него очень просто скатиться, но из него очень трудно выбраться. Поэтому крах коммунистической идеологии в социалистических странах ничего быстро изменить не может. Им суждено еще долго барахтаться в тисках социалистической экономики, порождая разные ее варианты. И никакого значения не имеет, какими «несоциалистическими» словами будут называть это состояние.
Мы знаем лишь один способ противостояния этим инстинктам. Основу общества должны образовывать не лишенные собственности, инициативы и влияния на власть «массы» (они в таком состоянии автоматически превращаются в нерадивых попрошаек и воришек), а независимые от государства производители, имеющие достаточно чего-то своего (землю, дом, орудия производства, акции и т.п.) для того, чтобы чувство собственного достоинства и уверенность в собственных силах были точкой отсчета при бессознательном выборе мозгом подходящих программ поведения.
Кстати, давно замечено, что как раз находящиеся в таком состоянии люди проявляют в наибольшей степени желание помогать слабым из своего кармана, не требуя ничего взамен.
Поэтому общество свободного предпринимательства оказалось способным реализовать во вполне приемлемой для людей форме больше социалистических идеалов, чем общество «реального социализма».
Коммунистическая идея утопична именно потому, что не соответствует нашим инстинктивным программам. Такое общество невозможно для людей даже на короткий срок. Для него нужен ни много ни мало как другой человек. Коммунисты попробовали создать такого человека путем искусственного отбора, уничтожая десятки миллионов «недостойных жить при коммунизме», но оказалось, что подходящего материала для селекции нового человека среди людей просто нет.
Общественные насекомые (термиты, осы, пчелы, муравьи) имеют иные инстинктивные программы и на их основе образуют «коммунистическое общество», где царят рациональные и справедливые правила поведения, которые все выполняют честно и ответственно, а пища распределяется в соответствии с потребностью каждого. Для них коммунистическая цивилизация была бы осуществима. Зато появись там строители социализма или свободного предпринимательства, они потерпели бы крах, а их идеи объявили бы утопическими. Ибо муравьи - животные муравейниковые, а не политические. Аристотель понял, что поведение человека задано его первобытным, животным прошлым. Тьма комментаторов билась над фразой «человек - животное политическое», ища в ней некий темный, иносказательный смысл и отбрасывая буквальное прочтение.
Критика нечистого разума. Аристотель жил в эпоху, когда на Балканах демократические государства умирали одно за другим, уступая олигархии, а македонские цари Филипп и сын его Александр начали создавать автократическую империю с замахом на мировую. Так что Аристотель хорошо знал, что автократия и олигархия - не единственные формы взаимоотношений, на которые способна «общительная природа человека». Она способна создать и демократию. До чего же додумались за 2,5 тыс. лет те философы, для которых демократия была случайным и тупиковым эпизодом античной истории, а главным путем человечества казалось строго иерархическое государство? А додумались они (И.Кант и другие немецкие философы) до «органической теории». Государство и право, согласно ей, создаются не на основе человеческого опыта и рассудочной деятельности людей, а как некий надорганизм, сотворенный Богом. Оно имеет пирамидальную структуру во главе с монархом, желательно просвещенным и обязательно абсолютным по власти.
В этой теории для этологов примечательно одно: смутное осознание того, что принципы, по которым собирается пирамида, и характер действий людей (их мораль, этика, право) людьми не придуманы, а заданы как бы изначально. Кем? Кант думал, что Богом, а этологи - что инстинктивными программами, доставшимися нам от длинного ряда предковых форм, живших в совсем иных условиях. Дальше этологи и авторы «органической теории» опять расходятся: первые-то знают, что эти программы несовершенны, многие из них нехороши для современного общества, а некоторые просто гнусны, а философы сочли их идеальными, верхом совершенства. С нашей с вами точки зрения, следуя этим программам, построишь нечто мерзкое и кровожадное, а с точки зрения философов - идеальное государство всеобщего благополучия.
Дальнейшее развитие этого направления философской «мысли» очевидно: для успешного построения такого государства ему нужно предоставить (или оно должно взять само) неограниченные полномочия над людьми, стать выше законов, даже собственных. В ХХ в. Муссолини и Гитлер получили возможность проверить на людях теорию подобного государства, а Ленин, Сталин и их многочисленные последователи во многих странах создали тоталитарные государства. Эти гигантские эксперименты на сотнях миллионов людей показали, что на основе тотального подчинения общества иерархическому принципу образуется пожирающее людей чудовище. Оно несравненно безобразнее тех обществ, которыми жили, руководствуясь теми же инстинктами, но в других условиях, предки человека.
К сожалению, опыт мало что дает человечеству. Поэтому тоталитарные режимы будут возникать снова и снова, если с ними не бороться. Ведь они регенерируют и самособираются.
Владимир ЖАРИНОВ, профессор Академии русских предпринимателей